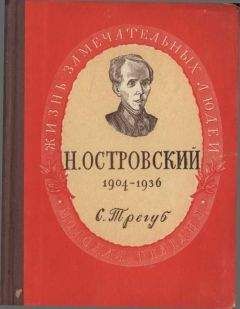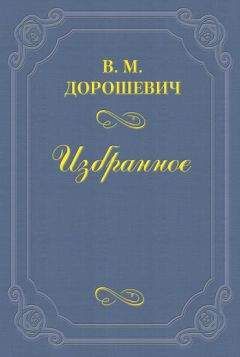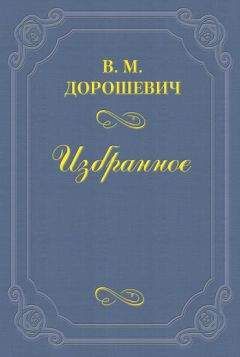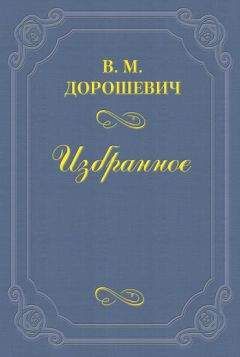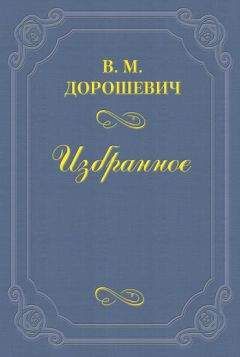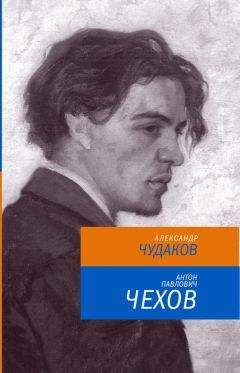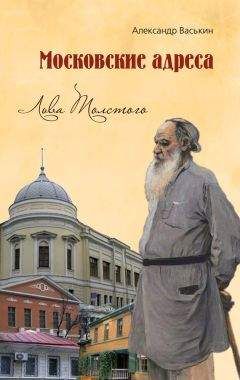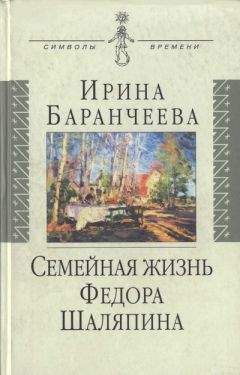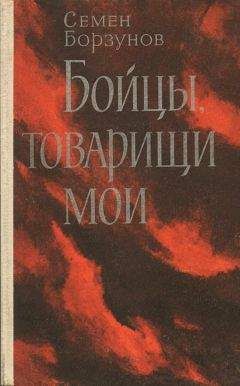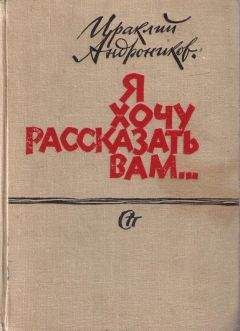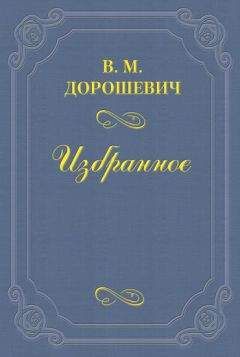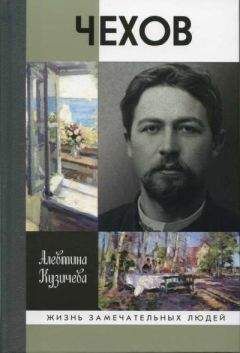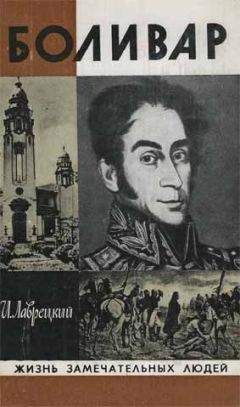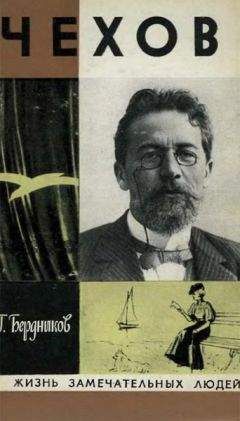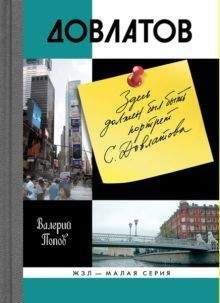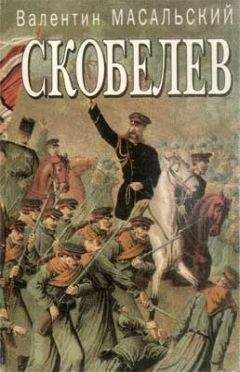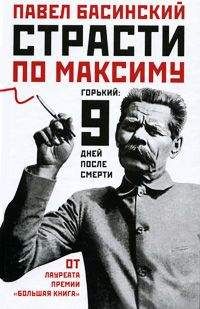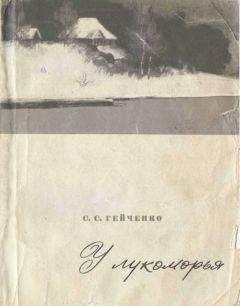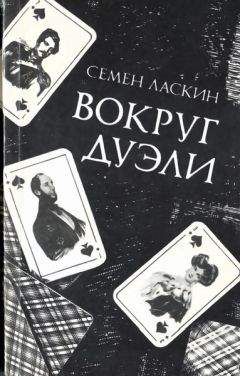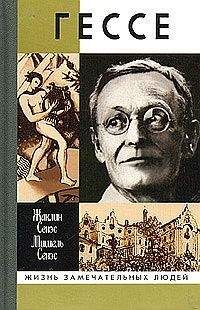Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
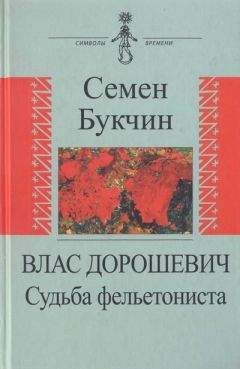
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Описание и краткое содержание "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста" читать бесплатно онлайн.
Имя Власа Дорошевича (1865–1922), журналиста милостью божьей, «короля фельетонистов», — одно из самых громких в истории отечественной прессы. Его творчество привлекало всеобщее внимание, его карьера переживала бурные взлеты и шумные скандалы. Писатель, доктор филологических наук Семен Букчин занимается фигурой Дорошевича более пятидесяти лет и знает про своего героя буквально всё. На обширном документальном материале (с использованием дореволюционных газет и журналов, архивных источников) он впервые воссоздает историю жизни великого журналиста, творчество которого высоко ценили Лев Толстой, Чехов, Горький. Чувство юмора и трагическое восприятие мира, присущие Дорошевичу, его острословие и зоркость критического взгляда — всё передано Букчиным с равной убедительностью. Книга станет существенным вкладом в историю русской литературы и журналистики.
Он не только восстал против унижающего личность закона, но и протестовал против унизительной «общественной жалости» по отношению к «незаконнорожденным». Более того, пытался выстроить из своего несчастья активную жизненную позицию, используя для этого образы классической и современной драматургии. Вот что он писал в критическом отзыве «Пьеса о незаконнорожденных» на модное драматическое сочинение В. Александрова «В неравной борьбе»: «Незаконнорожденные младенцы всегда были лакомым блюдом для драматургов.
Но старые драматурги на них нападали, а теперь их принято защищать.
Это выходит прекисло.
Самая сильная из защитительных пьес — „Без вины виноватые“. Но у Островского нет другой такой же слабой пьесы.
Всякий раз, как видишь на сцене Незнамова, хочется расхохотаться.
Человек молод, силен, здоров, талантлив, красив, производит впечатление на женщин и умеет заставить бояться мужчин, ему принадлежит будущее, а он — хнычет о том, что родился незаконнорожденный…
Разве у Незнамова от этого глаза, уши, нос, рот не на своем месте? Разве он вышел благодаря этому некрасивым, бесталанным, глупым?..
Мне гораздо более нравятся старые драматурги. Они видели в незаконнорожденных исчадие ада, и скажем спасибо им за это.
Иначе Шиллер не написал бы Франца Моора, а Шекспир своего бесподобного Эдмунда в „Короле Лире“.
Карл и Эдгар законны и добродетельны, — Франц и Эдмунд незаконны и порочны.
А между тем, скажите, положа руку на сердце, кто вам симпатичнее, за чьим каждым шагом вы следите с лихорадочным интересом? Кто подчиняет вас себе умом, энергией, живостью?
Разумеется, Франц и Эдмунд.
Мне кажется, такие нападки лучше всякой защиты <…> Пусть меня все ненавидят, но никто не смеет жалеть».
Но и эти гордые высказывания двадцатишестилетний Дорошевич предпочел упрятать в форму исповеди близкого друга: «Вот вам все те мысли, которые только что изложил передо мной один мой друг, которого я любил бы не больше, если бы он был законнорожденным.
Он был взволнован страшно:
— Каждый раз, как эти господа берутся защищать незаконнорожденных, — я чувствую себя прескверно. Еще один кисляк на сцене! Кисляк, который будет жаловаться на то, что он „незаконнорожденный“. Это вовсе не так дурно, как думают. Да, мы, незаконнорожденные, имеем только мать и не имеем отца. Мы чистосердечны, потому что нам неоткуда ждать наследства. С детства привыкли надеяться только на себя, потому что у нас нет близких. И бодрее идем»[53].
Но это была бодрость уже обретшего себя на журналистской стезе человека. А в ранние юношеские годы все было гораздо труднее. Пятнадцати лет он даже попытался покончить с собой, хотел отравиться. История, впрочем, достаточно характерная для возраста и того времени, он глухо обмолвился о ней в одном из фельетонов, прибавив однако, что «воспрянул к жизни новой» уже в 16 лет[54].
По признанию современников, Дорошевич не любил вспоминать о мрачных сторонах своего детства и ранней юности. «Да и все мы, любя Власа, — вспоминал Амфитеатров, — старались не касаться этого больного места его биографии. Так что я, например, знаю здесь только то, что невольно вырвалось из уст его самого в такие минуты, когда душевная тяжесть воспоминаний почему-либо становилась ему особенно невтерпеж, и он обмолвливался двумя-тремя короткими резкостями, определявшими великий душевный гнев и муку неизлечимую»[55]. Вообще эта часть его биографии была закрыта даже для друзей. Гиляровский признался: «…только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве еще усыновил московский пристав Дорошевич»[56].
За годы, прошедшие после отдачи сына чете Дорошевичей, Соколова сумела отвоевать себе место в литературно-газетном мире. Другого пути для нее не было: аристократическая среда отвергла, родня отвернулась, наследство давно распылилось. Хотя в свое время Денисьевы были весьма состоятельными людьми, о чем Соколова упоминает в мемуарах: «В начале пятидесятых годов мне пришлось случайно быть в Нижегородской губернии, где у меня оставался клочок земли, случайно уцелевший от громадного состояния, прожитого моей матерью, принесшей за собой в приданое 4000 тысячи душ крестьян в имениях, при которых были и фабрики и заводы. Замечу мимоходом, что так спускать свои состояния и так проживаться, как делали баре тех времен, в настоящее время уже не умеют… Кругозор уже… Размаха прежнего нет!»[57] В год смерти полковника Урвана Денисьева, как свидетельствует его формулярный список, ни у него, ни у его жены недвижимости уже не было.
В общем, нужно было научиться зарабатывать на жизнь. Тем более что на скромнейшие доходы мужа рассчитывать не приходилось. Да и прожил Сергей Соколов не так много. Дата его смерти неизвестна, но уже в 1875 году она подписывалась в документах — «вдова московского мещанина Александра Урвановна Соколова». Кстати, неблагозвучное отчество Урвановна она вскоре сменила на привычное Ивановна. К этому времени на руках ее были двое детей — сын Трифон и дочь Марья.
В поисках литературной, прежде всего переводческой работы она обратилась к старому знакомому отца, известному журналисту и музыкальному критику Н. М. Пановскому, а тот свел ее с Михаилом Никифоровичем Катковым, крупным публицистом, редактором газеты «Московские ведомости». Государственник и умеренный, но принципиальный реформист, Катков понимал, что в газетном деле не последнюю роль играет острое публицистическое слово. В июле 1868 года он предложил Александре Соколовой вести в «Московских ведомостях» фельетон и не прогадал. Острый язык, который он учуял во время встреч с молодой смолянкой, придал скандальную окраску первым ее выступлениям, задевавшим городские власти, купечество. Очень скоро обнаружилось, что у Соколовой имеется еще и дар знающего и одновременно остроумного музыкального и театрального критика. И вот ее имя как присяжного рецензента спектаклей Малого театра, Итальянской и Русской оперы уже гремит в старой столице. Она много пишет и в «Московских ведомостях», и в воскресном приложении к ним — «Современной летописи». Благодарный Михаил Никифорович предоставляет ей квартиру при редакции газеты. Мемуаристы не очень жаловали как правило не лезшего за словом в карман редактора «Московских ведомостей». А вот Соколова оставила о нем восторженные воспоминания: «Чистый, как хрусталь, с доброй, незлобивой душой и сердцем, открытым для всякого добра, Катков мог подлежать суду общества единственно только в силу своих крайних мнений и увлечений как публицист, но и тут он имел красноречивое оправдание в том, что всегда думал то, что писал и говорил, и что все высказываемое им было искренно и совершенно бескорыстно»[58].
Болезнь прервала работу у Каткова, после которой Соколова уже не вернулась в его газету и перешла в «Русские ведомости». Об этом периоде она вспоминала, как о «светлой странице своей литературной жизни». Здесь ей дали полную волю как театральному рецензенту. В рубрике «Театральные заметки» она дотошно разбирает спектакли московских театров, входя в обсуждение даже таких деталей как грим и костюмы актеров. В начале 70-х годов Соколова или, как ее уже начинают звать, Соколиха, не только безжалостная театральная обозревательница, но и ядовитая фельетонистка, выступавшая на злобу дня под псевдонимом Анфиса Чубукова, становится колоритной фигурой старой столицы. Коллега по «Русским ведомостям», не терпевший ее А. П. Лукин писал в 1883 году, что «если Соколова не имеет славы всероссийской писательницы, зато в Москве слава ее гремит по всем улицам и стогнам, от Плющихи до Болвановки и от Швивой горки до Плетешков.
Здесь все ее знают. Да и как не знать эту „литературную даму“, непременного члена первых представлений в театрах, концертов, гуляний, выставок и всех тех мест, где почему-либо собирается публика? Пред приговором Соколовой дрожали артисты, а более трусливые из них старались всеми средствами заискать расположение у своего, хотя и не всегда беспристрастного, но очень грозного критика. В среде же купцов Замоскворечья, Таганки и Рогожской имя Соколовой производило такой же трепет, как слово „жупел“.
Уверяют, что каждый купец, при встрече с Соколовой или когда услышит случайно ее имя, считает долгом осенить себя крестным знамением и промолвить про себя: „Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!“»[59]
Свою «энергичную и одухотворенную» работу в «Русских ведомостях» Соколова вынуждена была прервать после прихода в редакцию В. Н. Неведомского, который завел казенные порядки. С осени 1873 года она ведет фельетон в газете А. Краевского «Голос» и тогда же получает приглашение «на очень выгодных условиях в „Русский мир“, редактировавшийся и издававшийся в то время известным в военном мире генералом Черняевым». Газета «Русский мир» была близка славянофильским кругам, выступала против реформ военного министра Д. А. Милютина и одновременно ратовала за укрепление социальной и политической роли дворянства. Последнее особенно отвечало общественным взглядам Соколовой, для беллетристики которой судьба русского дворянства была сквозной темой. Она возглавила московское отделение «Русского мира».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Книги похожие на "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Отзывы читателей о книге "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста", комментарии и мнения людей о произведении.