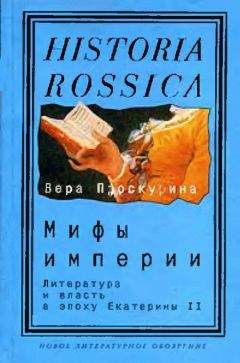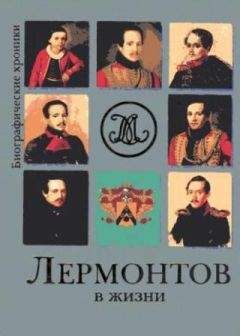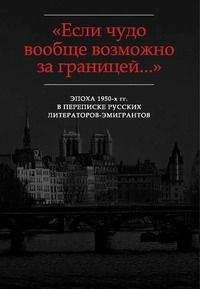Ян Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Описание и краткое содержание "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии" читать бесплатно онлайн.
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Бродский полагает, что писатель в эмиграции становится консервативнее. Подобное обобщение, строго говоря, весьма субъективно — возникает вопрос: о каких писателях или конкретном писателе идет речь? Как убедительно показал в своем эссе В. Карпиньский, польские писатели Гомбрович и Милош создали свои неповторимые произведения, свой стиль, а в целом великую польскую литературу современности именно в эмиграции. В. Набоков, создавший свой стиль, свою манеру письма, работал на постоянном «сдвиге»: от «Подвига» и «Машеньки» — к «Дару», к «Приглашению на казнь» манера его письма постоянно менялась, изменялось и само видение мира. И в своих «американских» романах Набоков как бы вновь отрицает себя и свои находки, сумев тем самым, по свидетельству многих критиков, сказать американским читателям новое об их собственной стране.
Поэтам, как известно, присущ субъективизм, а данное эссе Бродского к тому же не является литературоведческим исследованием. Лично я воспринимаю это эссе как обобщение поэтом собственного опыта, как раздумья над вопросами, на которые так или иначе приходится искать ответы каждому писателю-эмигранту. Оно позволяет по-новому взглянуть и на собственное творчество Бродского.
Далее Бродский пишет: «Писатель может, конечно, изменить манеру письма, сделать ее более авангардистской, сдобрив хорошей порцией эротизма, насилия, сквернословия по примеру коллег, производящих продукцию для свободного рынка. Однако стилистические сдвиги и нововведения в огромной мере зависят от состояния литературного языка „там“, на родине, связь с которой не прерывалась. Что до приправ, то писатель, будь то эмигрант или нет, никогда не хочет находиться под влиянием кого бы то ни было из своих современников. Эмиграция, возможно, замедляет стилистическую эволюцию, и еще одна правда об эмиграции заключается в том, что писатель в изгнании становится консервативнее». Стиль, по мнению Бродского, — не столько человек, сколько его нервы, а эмиграция в целом дает меньше раздражителей нервам, чем родина. «Такое состояние беспокоит писателя не только потому, что, по его мнению, существование на родине более естественное, нежели его нынешнее (каковым оно и является по определению со всеми вытекающими или мнимыми последствиями). В сознании писателя живет подозрение о маятниковой зависимости или соотношении между этими раздражителями и родным языком». По образному выражению Бродского, «жизнь писателя в эмиграции во многом является прообразом будущей судьбы его книг, которые растворятся, затеряются среди других на полках, единственное, что их сближает с соседями, — первая буква фамилии автора, и переплетенную судьбу писателя извлечет, быть может, слегка любопытный читатель или, что еще хуже, библиотекарь по долгу службы».
«Состояние, которое мы называем „изгнанием“, — пишет Бродский, — неимоверно ускоряет полет — или переход — писателя в уединение, в изоляцию, в абсолютную перспективу, когда никого и ничего не остается между ним и языком. Эмиграция еженощно приводит в такие края, для достижения которых при иных обстоятельствах потребовалась бы целая жизнь». Для писателя эмиграция или, как ее называет Бродский, «состояние, которое мы называем „изгнанием“», является прежде всего языковым явлением: «он изгнан, он отступает в родной язык, который из меча превращается в щит, в капсулу». (Вспомним сравнение Бродского, с которого начинается данный обзор.) То, что начиналось как «частное дело, интимное общение с языком, становится судьбой и более того — одержимостью и долгом».
Эмиграция, бесспорно, ускоряет этот процесс, но даже при первом чтении тонкого эссе Бродского, написанного изысканно-сложным английским языком, вспомнилось высказывание Блока о том, что «поэт — это не карьера, а судьба», строка Мандельштама: «Играй же на разрыв аорты…» и стихи Пастернака:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
И опять-таки Блок: «Слопала-таки гугнивая матушка-Русь своего поросенка». Судьбы поэтов, в особенности, русских поэтов (хотя вспоминается Овидий, Данте, Андре Шенье, Китс, Шелли, Байрон), — судьбы эти высоки и трагичны и, завораживая свой убийственной логикой, требовали «полной гибели всерьез». XX век, большевистская революция в России и последовавшая за ней первая волна русской эмиграции только ускорили этот процесс, хотя можно с уверенностью предсказать: И. А. Бунин, В. Набоков, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и многие-многие другие изгнанники разделили бы судьбу Мандельштама и Гумилева, если бы остались, или судьбу Марины Цветаевой и Святополк-Мирского, если бы вернулись.
Далее Бродский пишет: «У живого языка по определению склонность к центробежному движению, он стремится заполнить как можно большее пространство и как можно больше пустоты. В каком-то смысле мы все трудимся над словарем, потому что литература — и есть словарь, компендиум значений той или иной человеческой судьбы, того или иного человеческого опыта. Это словарь языка, где жизнь говорит с человеком. Его назначение — спасти вновь прибывшего человека от старой западни или, если он все же угодит в эту западню, помочь ему понять, что он стал жертвой тавтологии. Ибо знание жизненных значений, того, что с тобой происходит, — освобождает. Состояние, которой мы называем „изгнанием“, может быть объяснено и более подробно: известное своей болью, оно также известно своей тупо-болезненной бесконечностью, беспамятством, очуждением, безразличием, своими ужасающе человечными и бесчеловечными перспективами, измерить которые нельзя ничем, кроме самого себя. Иными словами, нам предоставлена возможность в великой причинной цепи явлений перестать играть роль погремушек-следствий и попытаться взять на себя роль причин. Эмиграция является именно такой возможностью. Мы можем и не воспользоваться ею, остаться в роли следствий, разыгрывая изгнание в старом духе, но и это не может быть сведено только к ностальгии. Конечно, мы столкнемся с необходимостью рассказать о притеснениях и, конечно же, наше состояние должно послужить предупреждением любому мыслящему человеку, который забавляется идеей идеального общества. В этом наша ценность для свободного мира. Такова наша функция. Но, быть может, большей ценностью и большим значением мы исполнимся как невольные воплощения лишающей мужества идеи, которая заключается в том, что освобождающийся человек не является свободным, что освобождение является средством обретения свободы, а не синонимом ее. Однако если мы хотим исполнить еще большую роль, роль свободного человека, нам придется воплотить или по крайней мере изобразить то, как терпит поражение свободный человек. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого в этом не винит».
Эссе Иосифа Бродского вызвало поток одобрительных и критических замечаний. Для одних (Ричард Ким) оно придало смысл всей конференции, другие (Н. Гюрсель) все же хотели бы уточнить, что же мы подразумеваем под понятием «изгнание»: для «гастарбайтера» оно означает нечто совершенно иное, чем для «политического беженца, диссидента», для писателя же оно, очевидно, наполнено совершенно особым смыслом. Л. Моникова считает, что в прозе Бродского, в отличие от его стихов, слишком много причитаний и что интеллектуал обязан извлекать нечто позитивное из своего опыта. Польский писатель Адам Загаевский размышлял о двух выборах, стоящих перед писателем: «быть политичным, быть критичным, быть разумным» и — «быть артистичным, быть метафоричным». Для Загаевского писание — это «поиски смысла, поиски преображения, магической трансформации реальности в поэзии. Тоталитарные государства — это лже-поэты. Тоталитаризм не ищет смысла. Он его уже нашел».
В своем докладе «Эмиграция в роли писателя. Размышления о печали и радости» В. Карпиньский говорил об обретении духовной и нравственной свободы. Исторически сложилось так, что в течение двух веков эмиграция была уделом польских писателей и польской литературы. Все основные, фундаментальные произведения польской литературы, которые придали форму языку и воображению, по мнению Карпиньского, были созданы вне Польши — от Мицкевича до Милоша. «Сегодня становится совершенно ясно, что Гомбрович и Милош создали великую литературу. Их современники, да и они сами поначалу были другого мнения: писатели чувствовали себя как меньшинство среди меньшинства, изгнанные дважды — из отечества и из эмигрантской среды», — говорит Карпиньский. Когда Милош решил остаться на Западе в 1951 году, он обратился к эмигрантской общине со словами: «То, что я собираюсь описать, может быть названо историей некоего самоубийства». Однако дальнейший путь Милоша был путем освобождения и явился примером завоевания свободы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Книги похожие на "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ян Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Отзывы читателей о книге "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии", комментарии и мнения людей о произведении.