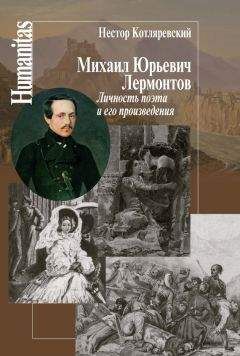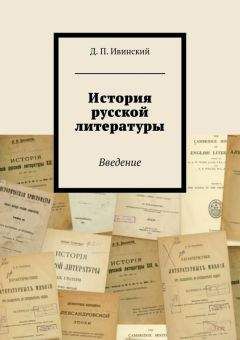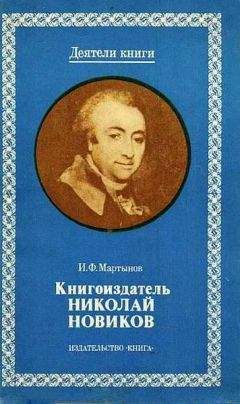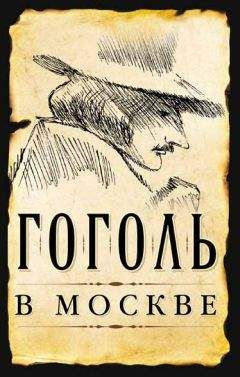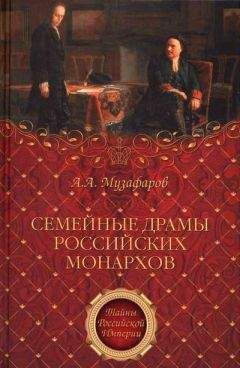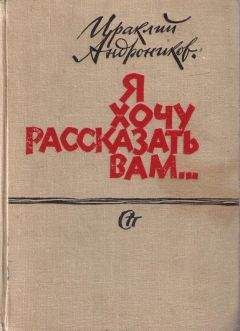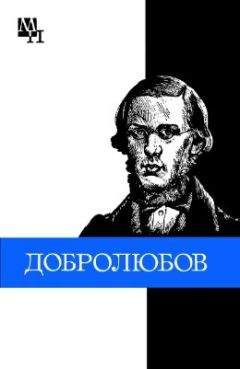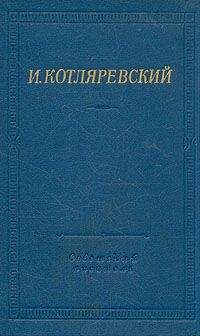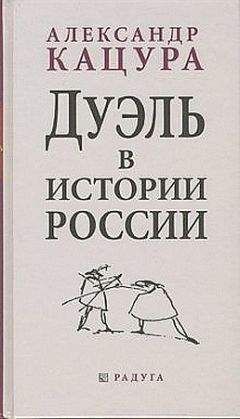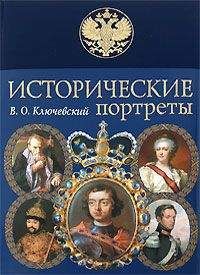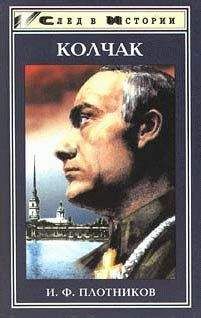Нестор Котляревский - Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы"
Описание и краткое содержание "Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы" читать бесплатно онлайн.
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), публицист, литературовед; первый директор Пушкинского дома (с 1910). Его книги – «Очерки новейшей русской литературы. Поэзия гнева и скорби»; «Сочинения К. К. Случевского», «Девятнадцатый век»; «Декабристы», «Старинные портреты», «Канун освобождения», «Холмы Родины», «М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения», «Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы» и др. – в свое время имели большой успех. Несмотря на недооценку им самобытности литературы как искусства слова, для современного читателя его книги представляют интерес.
«Вечера на хуторе» были одним из первых и относительно удачных откликов, которыми настоящий талант отозвался на требование «народности», понимаемой в этом довольно узком смысле.
В одном, однако, тогдашняя критика была права, не безусловно, но все-таки права. Когда она говорила, что наша словесность не отражает нашей «существенности», т. е. действительности, и предпочитает ей иные века и быт иных народов – критика констатировала бесспорный факт, хотя при обрисовке его и сгущала несколько краски.
В этом смысле в нашей словесности того времени был действительно большой недостаток «народности», т. е. наша тогдашняя жизнь не находила себе достаточно полного отражения в искусстве. Эта жизнь была очень сложна, очень пестра, характерна по разнообразию идей, чувств и настроений, которыми жили разные классы и группы нашего общества, но обо всем этом разнообразии нельзя было себе составить и приблизительного понятия по наличному богатству литературных памятников.
Критика, отмечавшая это явление, была права в своих жалобах по существу, хотя требования, которые она предъявляла нашей еще очень юной литературной жизни, были чрезмерны, а нападки ее на эту юную словесность были – как мы увидим – слишком огульны: кое на что из «существенности» литература все-таки успела откликнуться, и то, что она уловила, было в достаточной степени характерно для нашей тогдашней действительности. Критика просмотрела это малое, требуя многого.
Мы должны быть более внимательны, в особенности если хотим выяснить, какова была в данном случае заслуга Гоголя. Он – поэт действительности, «истинный поэт жизни», которого призывал Киреевский, – что нашел он уже свершенным в той области, в которой был призван свершить многое?
Так ли в самом деле была тогда глуха литература к явлениям современности, как мы привыкли думать? И так ли полно отразил эту современность сам Гоголь – вместе с Пушкиным наш первый реалист в искусстве?
* * *А наша действительность тех лет могла по праву горевать о том, что было так мало художников, ее достойных.
Это была действительность, отливавшая самыми разнообразными оттенками мысли и чувства. Век деятельный и тревожный, за которым следовала эпоха сосредоточенного раздумья – иной раз очень печального. Век брожения идей и подъема чувств, и затем годы замирения и притихания ума и сердца.
Эпоха Александра I могла в особенности дать много материала и красок для историка, психолога и художника.
В кругах высших были еще живы традиции времен Екатерины. Обломки этого царствования еще сохраняли обаяние старины и выделялись среди нового поколения своей запоздалой оригинальностью. Люди старого времени не играли уже никакой общественной и политической роли, но оставшиеся жить в столицах или рассеянные по усадьбам, отходили медленно в прошлое, унося с собой целую отжившую культуру. Опустевшие ряды пополнялись новыми лицами – той вольнодумной или вольнодумствующей аристократией, которую так поощрял в начале своего царствования император Александр. Сам он и все, кого он приближал к себе и кому доверял, составляли совсем особую интеллигентную группу, с необычным для тогдашней России либеральным миросозерцанием на религиозной подкладке, миросозерцанием нестойким и переменчивым, а потому вдвойне интересным. Умственный и психический мир этих людей в начале царствования Александра и в конце его мог дать богатейшую пишу для наблюдателя, и тот же наблюдатель, столь восторженный в 1801 году, не мог не задуматься, когда около своего любимца увидал Аракчеева и его свиту. Сложность и пестрота этой жизни высших классов усложнялись в зависимости от того, протекала ли она в столице на службе, где нужно было уметь плыть по ветру, или в деревнях, где на свободе можно было отдаться более спокойно своим симпатиям и продолжать подгонять русскую жизнь под иностранный образец или, наоборот, афишировать даже до мелочей свою патриотическую и национальную тенденцию.
Менее разнообразна, но не менее типична была военная среда того царствования. Были здесь и военные екатерининского времени, более светские люди, чем воины, были питомцы павловского царствования, люди суворовской школы, и, наконец, военная молодежь новейшей формации, столь много видавшая и столь многому научившаяся на Западе, молодежь во многих своих представителях либеральная, даже готовая ринуться в политическую агитацию.
Это воинство с честью вынесло на своих плечах все трудности отечественной войны, шествие его по всей Европе было шествием триумфальным, и никогда не думало оно так много о самых разнообразных общественных вопросах, как в эти годы, когда цивилизованные нации встречали его как своего избавителя и все-таки давали этим избавителям понять, что они полуобразованные люди.
Удивительное разнообразие типов и характеров можно было найти в это царствование и в слоях бюрократии, готовящейся стать всесильной. Кто сможет исчислить все эти оттенки общественной мысли, которая, начиная от полной косности и полной грубости в низших инстанциях, восходила иногда до очень просвещенных взглядов в инстанциях высших, всего чаще, однако, смешивая и грубость, и просвещение, и невежество вместе? Любопытная эта амальгама менялась, проявлялась разно в столицах, в губернских городах и в глухой провинции…
Пестро и типично было также интеллигентное общество тех годов, общество, в состав которого входили люди разных сословий, слоев и профессий… Условия благоприятствовали росту этого интеллигентного круга. Идеям религиозным, философским, общественным и политическим дарована была относительная свобода развития, по крайней мере, в первую половину царствования. Этой свободой интеллигентное общество широко воспользовалось. В нем можно было встретить и старых вольтерьянцев, и читателей энциклопедии, сентименталистов карамзинского типа, масонов, ревностно принявшихся за прерванную деятельность, мистиков и пиетистов разных оттенков, настоящих сектантов от добрых знакомых Татариновой до скопцов включительно, людей с большим тяготением к католичеству, философов в немецком стиле, учеников Шеллинга и натурфилософии, экономистов, ревностных читателей Смита, свободомыслящих в политическом смысле, сторонников конституции, людей радикального образа мыслей, будущих декабристов и рядом с ними ревнителей православия и самодержавия и, наконец, форменных обскурантов, гонителей и гасителей науки и всякого просвещения. Все эти люди высказывались довольно открыто и откровенно, говорили и действовали на виду, имея иногда к своим услугам специальные органы печати.
Такой же пестротой взглядов отличалась и пишущая братия, составлявшая обширный круг литераторов в разных смыслах этого слова. По вышеизложенным отзывам критики мы с ними отчасти знакомы. Все эти классики, сентименталисты, романтики, старики и молодежь, находились в постоянном общении, перебранивались, договаривались, вновь ссорились, издавали целыми группами журналы и альманахи, имели свои собрания и беседы, иногда с признанными уставами и церемониями, и опять-таки, что очень важно, могли на первых порах говорить с достаточной свободой.
Много было движения тогда в жизни тех классов, которым материальное и общественное положение гарантировало известную или полную самостоятельность. Особое разнообразие в эту и без того разнообразную толпу вносили женщины – по образованию, направлению ума и чувств более сходные между собой, чем мужчины, но тем не менее все-таки очень типичные.
Если бы из этих привилегированных классов мы спустились в более низкие и темные слои общества, то и здесь, в среде купеческой, мещанской и, наконец, крестьянской, мы могли бы натолкнуться на обильнейший запас всевозможных оригиналов, людей хотя и темных, но не менее интересных с психологической точки зрения, чем люди образованные. Богатство этих типов удесятерялось этнографическими условиями нашей обширной родины. Каждая национальность, входящая в состав нашего государства, имела, в особенности в низших слоях, свою характерную физиономию и могла обогатить яркими красками палитру любого художника.
Когда кончилось царствование Александра и после тревожного декабрьского дня наступило новое царствование, оно отозвалось сразу и очень сильно на внутреннем строе нашего общества и на его внешнем облике. Некоторые течения мысли и некоторые настроения стали исчезать, заменялись другими, исчезать стали и некоторые типы и зарождались новые. К началу 30-х годов эта перемена стала достаточно заметна. Религиозная, общественная и политическая мысль были приведены к полному молчанию, и исчезли совсем те кружки и общества, которые служили проводниками этих мыслей в царствование Александра. Большее однообразие мысли установилось в слоях военных и бюрократических, и значительно понизился уровень серьезности в журналистике и литературе. Интеллигентное общество стало казаться более однородным по своим взглядам и вкусам, конечно, не потому, что оно стало однородным, а потому, что многое в мыслях и чувствах не имело возможности всплыть наружу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы"
Книги похожие на "Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Нестор Котляревский - Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы"
Отзывы читателей о книге "Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы", комментарии и мнения людей о произведении.