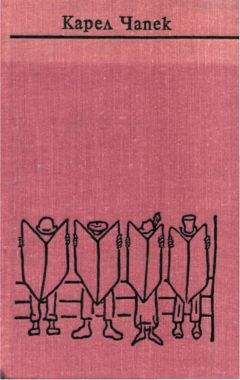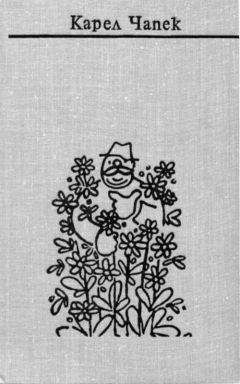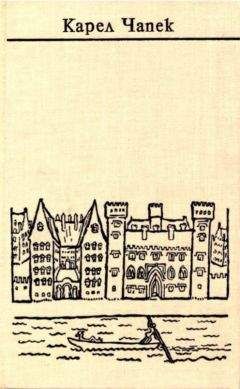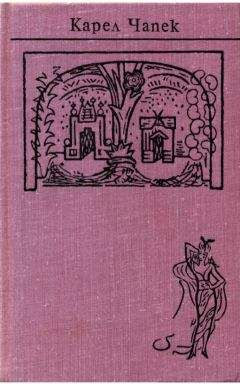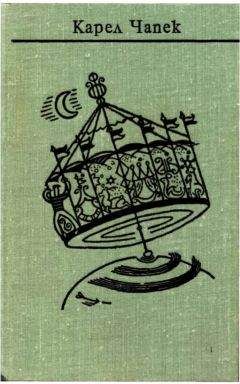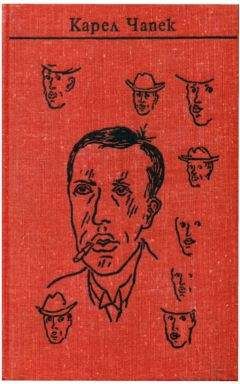Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы
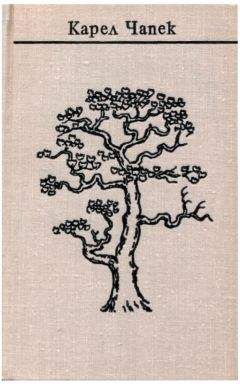
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Описание и краткое содержание "Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы" читать бесплатно онлайн.
Третий том Собрания сочинений Карела Чапека составили философская трилогия («Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь»), примыкающая к ней повесть «Жизнь и творчество композитора Фолтына» и одно из последних произведений писателя «Первая спасательная» (1937).
С иллюстрациями Карела и Иозефа Чапеков. В томе использованы рисунки Иозефа Чапека, — элементы оформления разных книг (заставки, концовки, виньетки и др.).
Несколько позднее была у меня иная любовь: ей было четырнадцать, мне — пятнадцать лет. Она была сестрой одного моего товарища, он провалился по латыни и греческому, — большой был шалопай и бездельник. Однажды в коридоре гимназии меня остановил потрепанный, унылого вида, подвыпивший господин, он снял передо мной шляпу, представился: «Младший чиновник имярек», — причем подбородок у него дрожал мелкой дрожью. Вот, мол, слыхать, вы такой отменный ученик, так не окажете ли милость, не поможете ли сынку в латыни и греческом? «Репетитора нанять я не в состоянии, — лепетал он, — так что если ваша величайшая любезность, сударь…» Он назвал меня «сударь», этого было достаточно; мог ли я требовать большего? Я с энтузиазмом взялся за труд и попытался втолковать хоть что-то этому отъявленному лоботрясу. Семья была странная: отец вечно пребывал в должности или в состоянии опьянения, мать ходила по домам шить, что ли; жили они на узкой, дурной славы, улице, там, с наступлением вечера, выходили на панель толстые, старые девки, раскачивавшиеся, как утки. А дома был — или не был — мой ученик, была его младшая сестра, чистенькая, робкая, с узеньким личиком и светлыми, близоруко-выпуклыми глазами, вечно потупленными над каким-нибудь вышиванием. Ученье шло из рук вон, мальчишка не думал заниматься, да и все тут. Зато я по уши, до боли влюбился в эту тихую девочку, скромненько сидевшую на стуле, держа вышивание у самых глаз. Она всегда поднимала их вдруг и как бы испуганно, потом словно извинялась за это дрожащей улыбкой. Брат ее уже даже не снисходил выслушивать мои лекции, он великодушно позволял мне писать за него уроки, а сам отправлялся по своим делам. И я корпел над его тетрадями, словно это был для меня бог весть какой труд; когда я поднимал глаза, девочка мгновенно опускала свои, краснея до корней волос, а когда я заговаривал, глаза ее чуть ли не выскакивали от испуга и на губах появлялась дрожащая, до жалости робкая улыбка. Нам не о чем было говорить, все ужасно смущало нас; на стене тикали часы, издавая хрип вместо боя; временами, — не знаю уж, каким чувством, — я догадывался, что она вдруг начинала чаще дышать и быстрее продергивать нитку, — тогда и у меня начинало колотиться сердце, и я не осмеливался поднять голову, только принимался без нужды перелистывать тетради ее братца, чтоб заняться хоть чем-то. Я заливался краской, стыдясь собственного смущения, и твердил себе: завтра скажу ей что-нибудь такое, чтоб она могла разговориться со мной. Я придумывал сотни разговоров, даже с ее ответами. Например: «Покажите, пожалуйста, что вы вышиваете и что это будет», — и в таком роде. Но вот я приходил и собирался заговорить, и тут-то у меня начинало бухать сердце, и горло сжималось, и я не мог произнести ни слова, а она поднимала испуганные глаза, а я горбился над тетрадями, бурча мужским голосом, что опять здесь куча ошибок. А между тем по дороге домой, и дома, и в школе у меня все не выходило из головы: что я ей скажу, что сделаю… Поглажу по волосам, начну давать платные уроки и куплю ей колечко, спасу ее каким-то образом, вырву из этого дома, сяду рядом, обниму — и мало ли что еще. Чем больше я выдумывал, тем сильнее билось сердце и тем беспомощнее ввергался я в паническое смущение. А братец ее оставлял нас наедине уже умышленно. «Завтра подскажешь», — бросал он, как истый шантажист, и исчезал из дому. И вот однажды: да, сейчас поцелую, вот возьму и поцелую, подойду к ней и сделаю это, вот сейчас встану и подойду… И вдруг я в смятении, чуть ли не с ужасом осознаю, что в самом деле встаю и иду к ней… И она встает, рука с вышиванием дрожит, губы полуоткрылись от ужаса. Мы стукнулись лбами — и ничего более! Она отвернулась, судорожно всхлипнула: «Я вас так люблю, так люблю!» Мне тоже хотелось плакать, а я не знал, что делать, господи Иисусе, что же теперь? «Кто-то идет!» — вырвалось у меня глупо, она перестала всхлипывать, но это и был конец прекрасной минуты. Я вернулся к столу, красный и растерянный, и стал собирать тетради. Она сидела, чуть не носом уткнувшись в вышивание, и колени у нее дрожали. «Ну, я пошел», — промямлил я, и на ее губах затрепетала покорная, перепуганная улыбка.
На другой день ученик мой с видом знатока процедил мне сквозь зубы: «А я знаю, что ты с моей сестрицей выделываешь!» И понимающе подмигнул. Юность удивительно бескомпромиссна и последовательна. Больше я к ним не ходил.
IXВ конечном счете жизнью движут главным образом две силы: привычка и случайность. Сдав выпускные экзамены (едва ли не разочарованный тем, как это оказалось легко), я не имел никакого определенного представления о том, кем же я, собственно, хотел бы стать, но так как мне уже дважды случалось давать уроки (и в обоих случаях я казался себе важным и большим человеком), то и открывалось мне то единственное, что походило на привычку: учить других. Почему и решил я записаться на философский факультет. Отец был доволен этим: учитель — все-таки государственный служащий и по выслуге лет получает пенсию. В ту пору я был уже долговязый, серьезный юноша и обрел право сидеть в трактире за столом, накрытым белой скатертью, вместе со священником, нотариусом и прочей городской знатью, и важничая я невероятно: впереди была жизнь. Я как-то сразу увидел, до чего же эта знать провинциальна и мужиковата; и я считал себя призванным добиться большего, чем они, и принимал таинственный вид, как человек, вынашивающий великие планы. Однако и за этим крылась лишь моя неуверенность, да отчасти боязнь шагнуть в неизвестное.
Пожалуй, то был самый трудный момент в моей жизни — когда я вышел из поезда в Праге со своим чемоданчиком и вдруг потерял голову: что дальше, куда податься? Мне чудилось — все на меня оглядываются, смеясь тому, как я стою, растерянный, с чемоданчиком у ног; я мешал носильщикам, люди натыкались на меня, извозчики окликали: «Куда подвезти, барич?» В панике подхватил я чемоданчик и пошел скитаться по улицам. «Эй, с чемоданом, сойдите с тротуара!» — крикнул мне полицейский. Я бежал в боковые улицы, совсем потерявшись, без цели, перекладывая чемодан из руки в руку. Куда я? Не знаю, а потому надо двигаться, остановись я — будет еще хуже. В конце концов я уронил чемодан, — пальцы мои совсем онемели от тяжести. Это случилось на тихой улочке, между булыжниками пробивалась травка — совсем как у нас на площади; и прямо перед моими глазами на воротах дома прибито объявление: «Сдается комната для одиноких». Я вздохнул с безграничным облегчением: все-таки нашел!
Я снял эту комнату у неразговорчивой старухи; в комнате стояла кровать и кушетка, она наводила уныние, но не важно: ведь я уже в безопасности. Я был в жару от волнения, не мог ни есть, ни пить, ничего, но приличия ради притворился, что иду пообедать, и пошел бродить по улицам, страшась не найти дорогу к моему пристанищу. В ту ночь нервная лихорадка дурманила мне голову, разбивая сон, я проснулся под утро, а в ногах моей кровати сидит толстый молодой человек, от него разит пивом, и он декламирует какие-то стихи.
— Ага, продрал зенки-то, — сказал он и продолжал декламировать.
Я думал, это мне еще снится, и закрыл глаза.
— Господи, вот болван, — промолвил толстый молодой человек и начал раздеваться.
Я сел; молодой человек, сидя на моей кровати, разувался.
— Опять привыкать к новому идиоту, — посетовал он. — Скольких трудов мне стоило заставить твоего предшественника заткнуться, а ты собираешься теперь дрыхнуть как пень!
Это было сказано с горечью, но я страшно обрадовался тому, что кто-то со мной разговаривает.
— Что это были за стихи? — спросил я.
Молодой человек рассвирепел.
— Стихи! Что ты понимаешь в стихах, молокосос! Послушай, — заплетающимся языком бормотал он, — хочешь со мной ладить, тогда упаси тебя бог разговаривать со мной об этом дурацком парнасизме. Ни хрена ты в поэзии не смыслишь.
Держа ботинок в руке и заглядывая в его недра, он начал тихо и страстно читать какое-то стихотворение. Очарование легким морозцем охватило меня — все это было так бесконечно ново и странно. Поэт швырнул ботинок в дверь — в знак того, что кончил, — и встал.
— Нищета, — вздохнул он. — Нищета.
Он задул лампу и тяжело повалился на кушетку; слышно было, как он что-то шепчет. Потом в темноте раздался его голос:
— Слушай, как там дальше: «Ангел божий, мой хранитель…» А? Тоже не помнишь? Вот станешь такой же свиньей, как я, и тебе захочется вспомнить, погоди, ох, как захочется.
Утром он еще спал, опухший и растрепанный. А проснувшись, смерил меня угрюмым взглядом.
— Философию изучать? К чему? И охота тебе…
Однако он покровительственно проводил меня к университету — «вот здесь это, а там то, и пошел ты к черту». Я был сбит с толку и околдован. Так вот она, Прага, и вот какие здесь люди! Наверное, это в порядке вещей, и мне надо приспособиться.
За несколько дней я ознакомился с распорядком университетских лекций, царапал в тетрадках ученые выкладки, которых я и доныне не понимаю, а по ночам спорил с пьяным поэтом о поэзии, о девчонках, о жизни вообще, все это, вместе взятое, вызывало в моей провинциальной голове некое кружение, однако вовсе не неприятное. Да и помимо того было на что смотреть. Вообще всего вдруг стало слишком много, меня захлестнуло, хаотично и внезапно. Я, может быть, снова закопался бы в свою надежную нелюдимую зубрежку, если б не толстый пьяный стихотворец с его возбуждающими проповедями. «Все на свете дерьмо», — скажет он безапелляционно, и дело с концом; одну лишь поэзию он частично исключал из круга своего неистового презрения. Я жадно впитывал его циничное высокомерие к явлениям жизни; он помог мне победно справиться с нагромождением новых впечатлений и неразрешимых вопросов; я мог теперь с гордостью и удовлетворением смотреть на множество вещей, на которые мне стало наплевать. Разве это не давало мне великолепного чувства превосходства над всем тем, что я отрицал? Не освобождало от романтических и меланхолических грез о жизни, которую мне все еще, вопреки моей прекрасной свободе и документально удостоверенной зрелости, не удавалось забрать в свои руки? В юности человеку хочется всего, что он видит, и он сердится, когда не может всего этого получить, за что и мстит миру и людям, ища, в чем бы им отказать. Потом он силится сам себя убедить в собственной неистовости; начинаются ночные кутежи, экспедиции в темные закоулки жизни, ужасающе пустозвонные споры и погоня за любовным опытом, словно в этом и есть величайшие трофеи мужественности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Книги похожие на "Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Отзывы читателей о книге "Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы", комментарии и мнения людей о произведении.