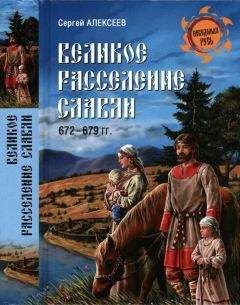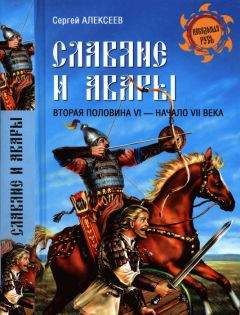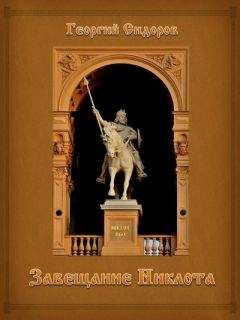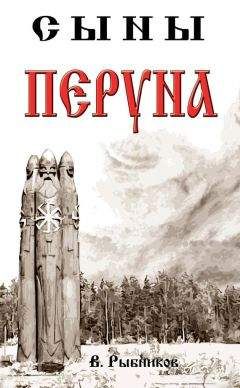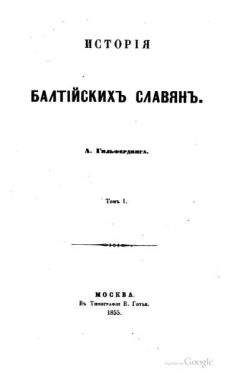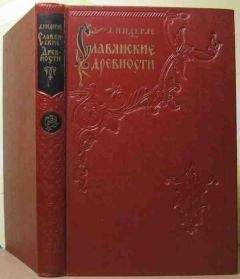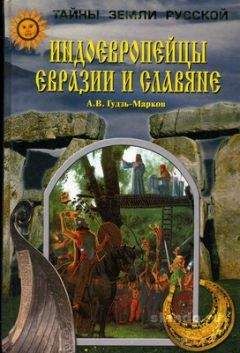Сергей Алексеев - Заря славянства. V — первая половина VI века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Заря славянства. V — первая половина VI века"
Описание и краткое содержание "Заря славянства. V — первая половина VI века" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена самому раннему периоду (V—VI века) в истории славянских племен Европы. Автор знакомит читателей с основными сведениями по общественному строю, культуре и верованиям древних славян. Особое внимание автор уделяет отношениям славян и гуннов, вторжению славян в пределы Восточной Римской империи. Отдельная глава рассказывает о северо-западных землях будущей Руси и славянских племенах, населявших их.
Иерархия внутри семьи зависела от возраста и семейного положения. В наиболее зависимом положении находились сироты, младшие вдовы, а также снохи. Имущественные права женщин и сирот, как правило, были в той или иной степени ущемлены. Так, в «братских» семьях в случае выделения сирот отцовская доля имущества делилась ими с его братьями. Дочь могла иметь имущественное право только на приданое своей матери. В то же время старшая женщина, овдовев, сохраняла свое положение[236].
Следующей ступенью в славянской общественной организации была патронимия («род» в самом узком смысле), образовывавшаяся в результате разрастания первоначальной большой семьи. Значительная часть славянских поселений описываемого времени соответствует именно патронимическим общинам.
Этнографическими преемниками древнеславянской патронимии являлись южнославянский род и белорусское дворище (древний термин для патронимии или отдельно проживающей большой семьи). Судя по этим поздним формам, патронимия изначально располагала правом коллективной собственности на землю и вела общую хозяйственную деятельность. Главы у патронимии не было, хозяйственные и правовые проблемы (распределение продукта между семьями, разбор конфликтов между членами патронимии и в исключительных случаях семейных разладов) решались сообща[237]. О совместном ведении хозяйства в пределах патронимии свидетельствует и археологический материал[238].
На словенских и особенно антских поселениях отмечено проживание отдельных семей явно иноплеменного происхождения. У древних славян существовал обычай приема в патронимический коллектив фактически не принадлежащих к нему людей.
В то же время некоторые селения занимались как минимум двумя патронимиями, часто разноплеменными и даже разноязычными, связанными свойством или ритуально-правовыми узами. Как показывает история славянского заселения Карпато-Дунайских земель, такие коллективы могли и в дальнейшем мигрировать совместно.
С совместным оседанием двух патронимий связано и появление правильной двухрядной застройки на многих пеньковских и некоторых корчакских поселениях. Стихийно формирующаяся кучевая застройка больше соответствует разрастанию селения из первоначального семейного двора. Из большесемейно-патронимической структуры наверняка выбивались «грады» вроде Пастырского и Зимно с их разноплеменным населением.
В плотно заселенных славянами областях небольшие поселения, занятые одной-двумя патронимиями, объединяются в «гнезда». У словен «гнездо» поселений тянулось на 2–5 км и включало обычно три-четыре веси, отстоящие друг от друга на 300–500 м. У антов на их старопахотных землях больше и количество селений в «гнезде» — от 5 до 10, и расстояние между ними — до 2 км, и протяженность «гнезд» — до 7 км. Не вызывает сомнений вывод, что каждое «гнездо» представляло собой территориальную общину[239].
Такая община могла образовываться и в результате разрастания и почкования изначальной патронимии[240], и путем сближения соседних патронимий. Эти два пути отражаются и в терминах, прилагавшихся древними славянами к общинам — «род» и «мир». Последний термин как раз и обозначал общину, основанную на дружественном соседском согласии и связанную, как правило, свойством между вошедшими родами-патронимиями. Те же два пути отражены и в двух способах образования древнейших славянских местных (и этнических) названий. Названия на -ичи отражают идею происхождения от общего предка, то есть разрастания общины или племени из патронимии. Названия, оканчивающиеся на -ане,-яне, -цы (по месту проживания), отражают территориальный принцип формирования общины или племени. Он преобладал на территориях со смешанным этническим составом населения — например, в прикарпатских областях и в целом у антов.
Община считалась верховным собственником и распределителем земли, могла организовывать коллективные работы. Общинный характер носили и основные религиозные обряды. Высшим органом общинной власти было вече, производившее подушное распределение земли[241]. Оно же разбирало конфликты между патронимиями, а при необходимости и внутри их. В этом общинном сходе участвовали главы семей, а с правом совещательного голоса — все женатые мужчины (мужи). При среднем количестве 6–7 весей в «гнезде» и 2–5 семей в веси ясно, что количество участников общинного веча с правом решающего голоса едва превышало 20–30 человек.
В основе решений веча лежали нормы обычного права. Наиболее распространенной уголовно-правовой категорией была у древних славян кровная месть (праслав. *mьstь). Ею еще в историческое время карались убийство, изнасилование и серьезное членовредительство[242]. Смертью исстари карался и привод в общину преступника в качестве гостя[243]. Вместе с тем немало указаний и на то, что община могла заменить смерть изгнанием, если речь шла о преступлении внутри самой общины и тем паче внутри патронимии. Изгой, впрочем, лишался всех прав и объявлялся вне закона. По сути, изгнание было лишь отсрочкой смертного приговора и слабым шансом выжить. Община, приютившая преступника, отвечала за его преступление[244]. Смертью или тяжким увечьем грозило обычное право и клятвопреступнику (на что есть прямые указания в фольклоре и самих клятвенных формулах).
«Обиды» (в том числе преступления против собственности) карались тяжкими, иногда до смерти, побоями, но уже тогда могли быть прощены за откуп[245]. Факт совершаемого в дневное время преступления против собственности (а часто и иного) удостоверялся «криком» потерпевших[246]. Самосуд над преступником на месте преступления, увечье и даже убийство, совершенные в целях самообороны, преступлениями не считались вовсе, во всяком случае, к числу тяжких не относились[247]. В случае неочевидности какой-либо вины применялась судебная процедура, включавшая клятвы, испытания тяжущихся, иногда колдовские обряды. Клятва, как правило, требовала поручительства[248]. Среди испытаний упоминаются поединок, испытания каленым железом и водой (утоплением), в зависимости от преступления или юридической ситуации[249]. Высоко ставилось свидетельство очевидцев, причем они должны были свидетельствовать не «со слуха»[250].
Общины объединялись в племена. Они могли возникать вследствие разрастания первоначальной общины (в том числе патронимической) и потому именовались также «родами» (и «мирами»?), но чаще «коленами». Последний термин употреблялся в славянской книжности для связанной общим происхождением части этнического целого (например, «двенадцать колен Израиля») и соответствует понятию «племя» в его современном смысле. Названия племен также образовывались по двум названным выше моделям. Но здесь уже наблюдается чередование (например, лендзяне / лендичи). Оно отражает естественное размывание идеи общего происхождения и в целом патронимических представлений на уровне племени и тем более группы племен. Даже если они реально происходили от общего предка, что бывало нечасто. Так, запрет на внутриродовые браки мог еще «работать» на уровне территориальной общины. Но для разросшегося из патронимии племени он был вреден и подлежал безусловному ограничению[251].
Небольшое племя, сформировавшееся на основе территориальной общины, представляла собой группа поселений в районе Корчака. В нее входило 14 поселений (весей), объединенных в несколько «гнезд», расстояние между которыми — от 3 до 5 км[252]. Расстояния между ближайшими «гнездами» весей у антов — от 10 км[253]. Территория, охваченная властью племенных институтов (прежде всего общего веча), издревле именовалась «волостью». О делении словен и антов на множество племен сообщает Прокопий Кесарийский[254]. Племя являлось верховным собственником и распределителем угодий — в основном неземледельческих (луга, леса)[255].
В результате «почкования» или сближения племен внутри антской и словенской этнических общностей возникли устойчивые племенные группы. Такой группе из двух-трех широко расселившихся племен соответствует состоящая из четырех десятков поселений культурная группа Ипотешти. Более обширными локальными группами внутри единой словенской общности стали племенные объединения на правом (дулебы) и левом (ляхи) берегу Западного Буга. Анты были несколько более монолитны в географическом, культурном и политическом отношении.
Религия
Каждое славянское поселение имело свой сакральный центр, который мог считаться местом обитания сверхъестественного покровителя — духа-предка или божества. Подобные объекты могли помещаться в священных рощах[256]. В такой роще мог располагаться и примитивный «храм» (праслав. *хormъ), об облике которого мы можем судить только по этимологии слова[257] и отдельным мотивам славянского прикладного искусства. Это было небольшое, устремленное вверх сооружение шатрового типа из древесных материалов или даже простой материи с естественным столбом — деревом — в центре. Священное дерево (береза, дуб или иное) в таком «храме» служило главным объектом поклонения. Оно считалось вместилищем божества и одновременно символом Мирового древа — сакрального центра мира.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Заря славянства. V — первая половина VI века"
Книги похожие на "Заря славянства. V — первая половина VI века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Алексеев - Заря славянства. V — первая половина VI века"
Отзывы читателей о книге "Заря славянства. V — первая половина VI века", комментарии и мнения людей о произведении.