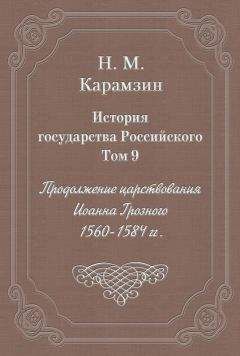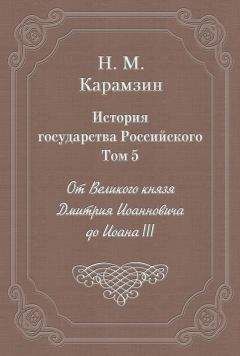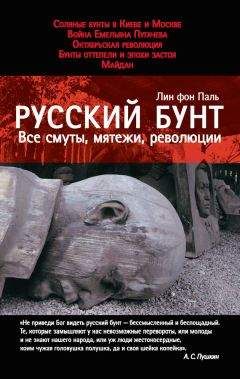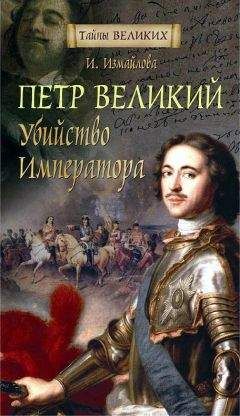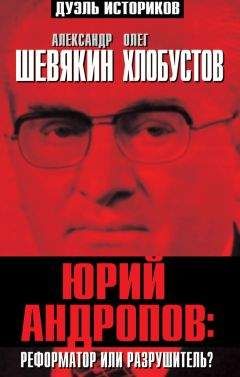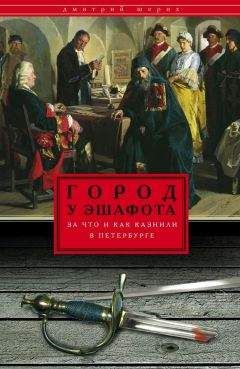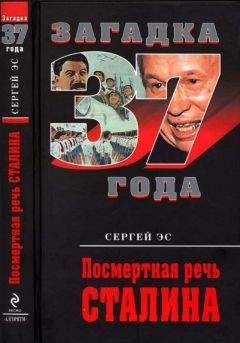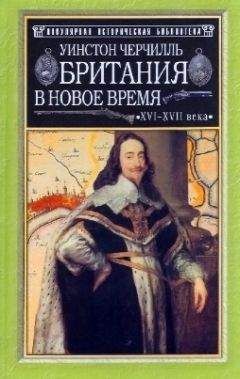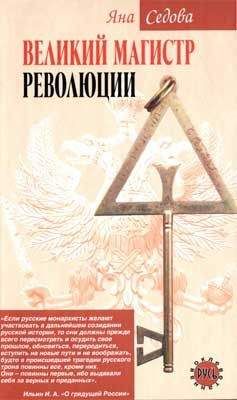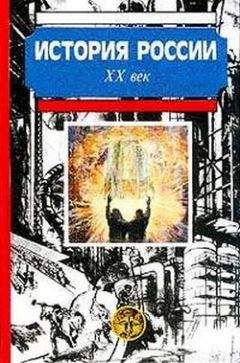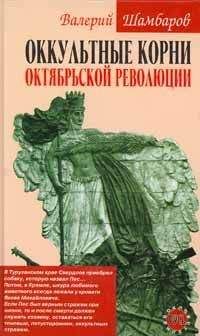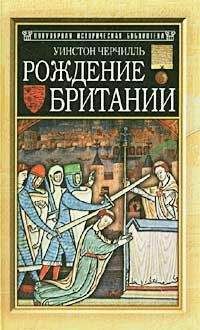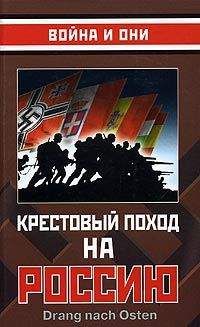Александр Пыжиков - Корни сталинского большевизма
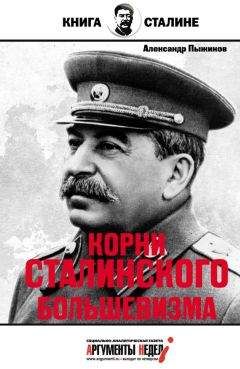
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Корни сталинского большевизма"
Описание и краткое содержание "Корни сталинского большевизма" читать бесплатно онлайн.
О революции и Сталине написано многое, но в данной работе автор предлагает по-новому посмотреть на нашу историю. В основе книги – взгляд на различие ленинского и сталинского большевизма. Эти два течения имели разные истоки, социальную базу, идейные устремления. Не будет преувеличением сказать, что объединяла их только внешняя «вывеска» и набор общих лозунгов, чем во многом и ограничивается их схожесть. Понимание этого обстоятельства открывает новые горизонты не только с научной, но и с практической точки зрения. Позволяет более глубоко осмыслить бурные события отечественного XX века. Книга будет интересна всем, кому не безразлична история своей страны.
Здесь настало время сделать одно разъяснение. Использование термина старообрядчество в контексте нашего исследования не совсем правомерно. Важно уточнить, какое старообрядчество имеется в виду – поповцы или беспоповцы. (В этом различении как раз и состояло одно из достижений Серебряного века). Две эти староверческие ветви, давно оформившиеся в недрах раскола, к концу XIX – началу XX столетия обслуживали (в социальном смысле) совершенно разные идейные направления. Старообрядческая поповская церковь подчеркивала древность своих обрядов, но, по сути, мало отличалась от господствовавшей РПЦ. Напомним, поповское согласие можно характеризовать как своего рода «олихаргическое»: к нему принадлежали, или вышли из него более 90 % купеческих миллионеров и крупных предпринимателей. Такая церковная организация, созданная в середине XIX века и существовавшая на деньги богатых, не могла одобрять ничего, что хоть в какой-то степени угрожало крупной частной собственности, и также как РПЦ провозглашала ее безусловную «святость» и «благость». Хотя в количественном отношении поповцы составляли менее 10 % от всего староверческого мира, они уверенно претендовали на роль главного выразителя чаяний всего староверия. Обладая полноценной инфраструктурой и тягой к публичности, поповская церковь представляла собой видимую вершину огромного староверческого айсберга, остальные 90 % которого составляли различные беспоповцы, в подавляющем большинстве по официальной статистике значившиеся обычными православными. Многочисленные беспоповские толки не испытывали потребности в регистрационных процедурах, публичности культа и поэтому как бы растворялись среди крестьян, рабочих, мелких торговцев, якобы составлявших пусть и невнятную, но синодальную паству. Именно в этой среде «жили» не частнособственнические, а солидарные, коллективистские принципы, которые представлялись беспоповцам оптимальными для противостояния чуждому им никонианскому государству[283]. Согласно этим воззрениям, легитимировать собственность может только труд. И поэтому, в отличие от капиталистически настроенной верхушки поповцев, беспоповцы считали, что заводы и фабрики, создававшиеся руками нескольких поколений их единоверцев, принадлежат им, а никак не владельцам[284]. Разумеется, подобное осознание антисобственнических устремлений русского рабочего, базирующееся на религиозном менталитете, выглядит необычно. В советскую эпоху о специфике промышленного труда рассуждали в традиционном марксистском стиле типа: крестьянин за вычетом податей становился владельцем продуктов труда, а потому понятие собственности являлось для него не пустым звуком, в фабрично-заводском же производстве подобная мотивация отсутствовала. По этой причине народная традиция трудолюбия у пролетариата претерпевала глубокие изменения, очищалась от частнособственнических позывов, ее идейное содержание поднималось на более высокий уровень[285]. О том, что эти антисобственнические представления – продукт определенного религиозного мировоззрения, в советский период, естественно, никогда не рассматривалось всерьез.
Необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство: когда сегодня говорят об участии староверов в индустриальном строительстве России, то обычно имеют в виду исключительно купечество поповского согласия. А пролетарские низы формировались главным образом из беспоповцев; из них к концу XIX века на 80 % состояли старообрядческие фабрично-заводские кадры, именно они, миллионы простых старообрядцев-беспоповцев, обеспечивали промышленный подъем страны. Трудились они не только на активах, оказавшихся в собственности купеческих «благодетелей», но и на производствах, создаваемых казной или учреждаемых иностранным капиталом. Возникавшие фабрики и заводы вбирали потоки староверов из Центра, с Поволжья и Урала, из северных районов. Каналы согласий (землячества), выступавшие в роли своеобразных «кадровых служб», позволяли староверам свободно ориентироваться в промышленном мире, перемещаясь с предприятия на предприятие.
Можно сказать, что рабочие-староверы не в меньшей степени олицетворяли тот дух протестантской этики, о котором сегодня любят рассуждать, говоря о купцах, вышедших из раскола. Более того, в начале XX века российский рабочий класс, числясь православным, в большей мере, чем купечество, придерживался старообрядческих беспоповских традиций. К этому времени многие купцы, пытаясь встроиться в российские элиты, утрачивали или минимизировали связи с древним благочестием. Для них объединяющим началом выступала экономическая прагматика. Рабочим же такие перемены не требовались: помимо заводов и фабрик, встраиваться им было просто некуда. Сегодня как в западной, так и в отечественной историографии утвердилось мнение, что своего рода протестантский проект, носителем которого являлось купечество, остался в России нереализованным. Староверие не стало светским христианством, как в западных протестантских странах, не трансформировалось в этику и социальную практику[286]. Это справедливо, но только в том случае, если речь идет о купцах-поповцах (любимцах современных историков) и близких к ним предпринимателях; всех их устранила революция. Если же обратить взгляд на огромные беспоповские массы и их генезис в новой исторической реальности, после 1917 года, то идея о судьбе протестантского проекта в России (только не вокруг частной, а вокруг общественной собственности) предельно актуализируется. Иными словами именно беспоповщина, а не купеческие миллионеры, стала «спусковым крючком» внецерковной традиции русского народа. На этом корне, как в экономическом, так и в идеологическом плане, выросло новое государство. Бродившие в низах староверческие представления об устройстве жизни, после свершения революции, вышли на поверхность, обретя статус государственных. О том, как это происходило, и рассказывает данная книга.
Глава 3. Бунт выходцев из староверия в РКП(б) (1920 – 1922 гг.)
Аормирование большевистской партии неизменно привлекает внимание исторической науки. Советскими историками партийное строительство изображалось как победоносное низвержение всех, кто по тем или иным причинам противился ленинским предписаниям. На этой логике построен монументальный «Краткий курс истории ВКП(б)». Рабочее движение с одной стороны, и марксистские кружки, привившие русскому пролетариату правильное социалистическое сознание, с другой. На этих идеологических и социальных опорах креп в дореволюционный период большевизм, бросивший вызов буржуазному миру.
На самом деле процесс создания партии был полон внутренних противоречий и имел не много общего с идиллией «Краткого курса». Расклад сил в то время определяли два центра, сложившиеся к 1905 году – ко времени проведения III съезда РСДРП(б). В первый центр входили представители революционной интеллигенции, литераторы, большую часть времени проводившие в Европе, т. е. в эмиграции. Напомним, именно эта публика преобладала на II съезде, заседавшем в Брюсселе-Лондоне в 1903 году. Подкованная в вопросах теории, с Россией она была связана «весьма слабыми узами»[287]. В то же время в партии все громче заявляли о себе руководители комитетов, нелегально возникавших в различных российских регионах. Их появление на III съезде существенно преобразило внутрипартийный ландшафт. Эти практики в отличие от интеллигентов-эмигрантов непосредственно взаимодействовали с пролетарской средой, и отсюда проистекало сознание их собственной значимости в революционном движении. Как вспоминала Н. К. Крупская:
«комитетчик был обычно человеком довольно самоуверенным… никакого внутрипартийного демократизма не признавал: провалы одни от этого демократизма только получаются, с движением и так мы связаны. Комитетчик всегда внутренне презирал заграницу, которая-де с жиру бесится и склоки устраивает: посадить бы их в русские условия».[288]
Руководители комитетов, страстно желавшие «обуздания» заграницы, заявляли, что «во главе оппозиции при расколах всегда стояли интеллигенты»[289]. Заметим, что наличие в партии двух этих центров стало своего рода отправной точкой для зарубежных историографов. Они подробно прослеживали различия между их представителями: по партстажу, образованию, национальности. В частности, среди группы интеллигентов преобладали лица неславянского происхождения – 70 %, тогда как в составе комитетчиков этот показатель не превышал 45 %, да и образовательный их уровень оказался несравненно ниже[290]. Как считают западные ученые, эти различия обусловили в партии глубокие расхождения, в 1920-х годах переросшие в открытый политический раскол[291].
На III съезде схватка между этими силами развернулась по рабочему вопросу, точнее, по вопросу привлечения рабочих в партийные ряды. Эта проблема была действительно крайне актуальной, поскольку в партии, во всеуслышание объявленной пролетарской, присутствие самих рабочих было редкостью. На съездах, которые проходили в Европе, среди делегатов не бывало ни одного сколько-нибудь заметного пролетария[292]. Такая же ситуация наблюдалась и в местных организациях РСДРП(б). Даже когда в апреле 1905 года арестовали часть активистов петербургского партийного комитета, среди задержанных оказалось 29 студентов (или бывших студентов), восемь мещан, одна дочь священника, одна – действительного статского советника, и только шестеро были из крестьянского сословия, т. е. рабочие[293]. Недостаточную вовлеченность пролетариев на партийную орбиту руководители комитетов объясняли слабой идейной подготовленностью рабочих, что затрудняло их использование в пропагандистской деятельности. Они призывали не переоценивать психологию русского пролетариата, «как будто рабочие сами по себе могут быть сознательными социал-демократами»[294]. В результате, как справедливо заметила Н. К. Крупская, «токи, по которым шла партийная работа, и самодеятельность рабочих, как-то не смыкались»[295]. Такая ситуация вызывала крайнюю обеспокоенность В. И. Ленина, который наотрез отказывался воспринимать жалобы на отсутствие годных пролетариев для работы на местах[296]. На III съезде вождь решительно потребовал наладить взаимодействие с трудовыми массами. Он утверждал: если в комитеты не вводили рабочих, то только по одной причине – «не умели выбрать подходящих людей», а это в первую очередь «есть не только педагогическая, но и политическая задача»[297]. Ленин предложил переорганизовать значительное число местных организаций, пополнив их состав в таком соотношении: на двух интеллигентов восемь рабочих[298]. Чтобы это осуществить, следовало не слишком завышать критерии отбора рабочих представителей. Ведь интеллигенты считались достаточно подготовленными даже после беглого знакомства с «Эрфуртской программой» и прочтения нескольких номеров «Искры»; рабочие же обладают подлинным классовым инстинктом, а потому и при небольших политических навыках «довольно скоро делаются выдержанными социал– демократами»[299].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Корни сталинского большевизма"
Книги похожие на "Корни сталинского большевизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Пыжиков - Корни сталинского большевизма"
Отзывы читателей о книге "Корни сталинского большевизма", комментарии и мнения людей о произведении.