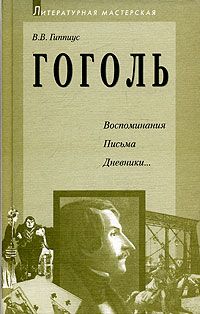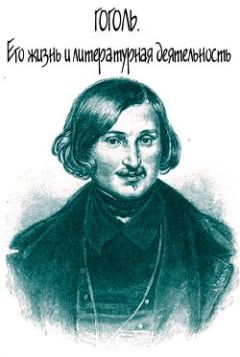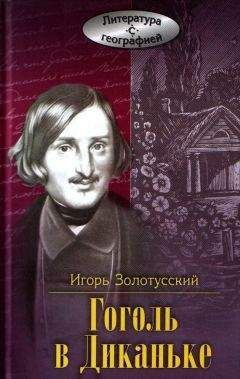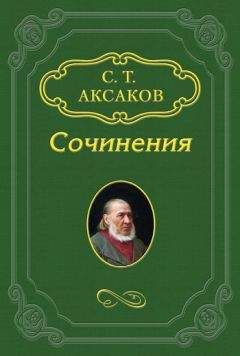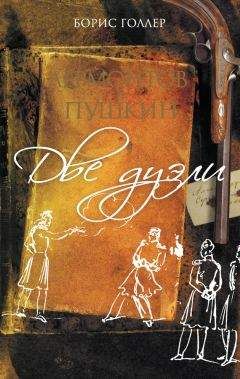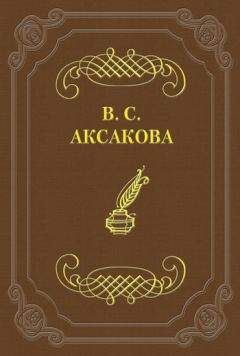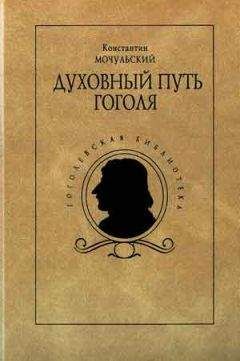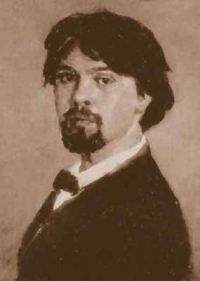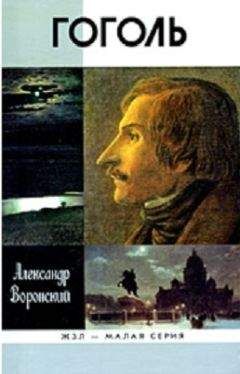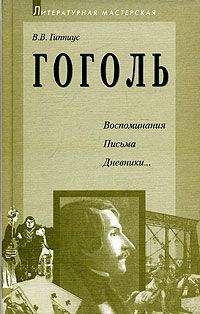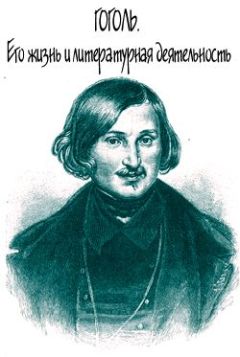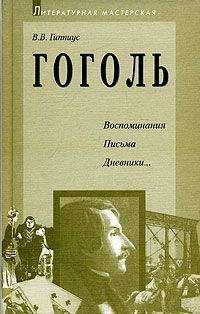Николай Степанов - Гоголь: Творческий путь
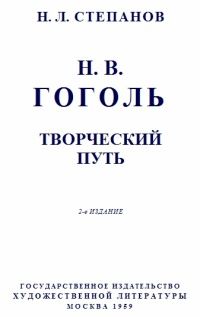
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гоголь: Творческий путь"
Описание и краткое содержание "Гоголь: Творческий путь" читать бесплатно онлайн.
В ряду писателей, составляющих гордость русской литературы, в ряду таких имен, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Горький, – стоит имя Гоголя. Творчество Гоголя особенно близко и дорого нашему народу. Великий русский художник слова горячо и самозабвенно любил свою родину и свой народ и во имя его счастья беспощадно осуждал все то отсталое, косное, темное, безобразное, что сковывало и уродовало человека.
Таким же ядовитым сарказмом проникнуто и все последующее описание городского «благолепия»: «Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился благодаря попечению гражданского правителя садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Пародируя велеречиво фальшивый «слог» казенных борзописцев, Гоголь говорит и о «заботах» «градоначальника» и о «трепетании сердец граждан» «в избытке благодарности», своей едкой иронией обнажая безрадостную картину запущенности, показного усердия начальства, чьи «попечения» беззастенчиво восхваляются развязно-панегирическим слогом продажной булгаринской прессы. В дальнейшем эта первоначальная характеристика города все более и более углубляется. Едкая ирония автора уже откровенно обнажается в пародийном использовании официального холуйского красноречия.
Здесь особенно наглядно сказался основной художественный прием сатирического разоблачения у Гоголя, самая манера его повествования. Автор рассказывает с той торжественностью и обстоятельностью, которая, казалось бы, подразумевает возвышенный, благородный характер того, что он описывает. Он как бы становится на точку зрения официального лица, одного из чиновников города, «пекущегося» о его благолепии. Фактически же то, о чем он рассказывает, настолько ничтожно, бедно и пошло, что самый торжественный тон повествования еще сильнее и резче оттеняет пустоту и лживость тех слов и понятий, которыми пользуется панегирист. Благодаря такому приему особенно явственной становится жизнь господствующих классов, пытающихся прикрыть свою духовную нищету и уродство лживыми, лишенными реального содержания словами.
«Высшая степень Пустоты» – таково реальное содержание крепостнической действительности, в ее «неразумном», враждебном всякому движению вперед проявлении. Духовное оскудение и мертвенный застой составляют удел господствующих классов, которые стремятся обречь на столь же убогое и пустое существование все их окружающее.
За ироническим разоблачением лицемерия и внутренней пустоты и нечистоплотности губернского общества выступает глубокая горечь, осознание писателем несоответствия между теми высокими гражданскими требованиями и идеалами, которые предъявлялись им к носителям власти, и их подлинной гнусной антинародной сущностью. В представлении Гоголя носители власти, чиновники, осуществляющие управление государством, должны являть собой пример самоотверженного и бескорыстного гражданского служения, насаждать справедливость и заботиться о благе народа. Таковы были его убеждения в юности, при выходе из Нежинской гимназии, эти же просветительские взгляды высказывает он впоследствии и во втором томе поэмы, излагая их в речи князя, заключающей призыв к чиновникам: «вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку», проявить «самоотвержение и высокую любовь к добру», «восстать против неправды». Однако эти утопические представления, ограничивавшие идейный горизонт писателя, преодолевались типической силой и правдивостью его художественных образов.
В статье 1844 года «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» Гоголь намечает тот положительный идеал человека, во имя которого он своим гневным словом заклеймил «мертвые души» дворянского общества. Гоголь призывает здесь «опозорить в гневном дифирамбе» «новейшего лихоимца нынешних времен», что сам он и сделал, создав образ Чичикова и прочих «героев» поэмы. В то же время наиважнейшую для писателя задачу он видит в том, чтобы «возвеличить в торжественном гимне незаметного труженика, какой, к чести высокой породы русской, находится посреди отважнейших взяточников…» Он призывает «выставить» «прекрасную бедность» как «святыню», так как именно в этой скромной среде «незаметных тружеников», честно относящихся к своему гражданскому долгу, он видит оплот государства: «Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным». Этот положительный, демократический идеал Гоголя, исполненный горячего сочувствия к труженикам, обездоленным крепостническим строем, и определял гневную, негодующую силу его сатиры. В «Мертвых душах» писатель разоблачал не только помещиков-тунеядцев, но весь чиновничий синклит, всю бюрократическую систему, основанную на продажности, взяточничестве, самоуправстве и взаимной поруке самых разнообразных представителей крепостнического государства – от низших до высших, объединенных одной целью ограбления и угнетения народных масс.
Описывая, как семейственно производилось оформление покупки Чичикова председателем палаты, автор замечает: «Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая неизвестно каким образом отнесена была на счет какого-то другого просителя». В этой мелкой детали приоткрывается характер «законности», царившей в «присутственных местах», основанной на самоуправстве и семейственности. Характерно, что в первоначальной редакции это место сопровождалось обобщающей репликой Гоголя (вероятно, исключенной из цензурных опасений): «Так уже исстари всегда водилось на свете. Богатому ничего не нужно платить, нужно только быть богату. Ему и место дадут славное, и в ход пустят, и деньги останутся в шкатулке; платит только тот, которому нечем платить». Это замечание Гоголя еще сильнее подчеркивает ненавистную писателю несправедливость общественного порядка, господства «богатых», захвативших в свои руки все лучшее в жизни, обрекая бедняков на нищету и прозябание.
Тем беспощаднее Гоголь разоблачает пустоту и лицемерие провинциального дворянского и чиновнического общества, с жгучей ненавистью и иронией демонстрируя самые разнообразные проявления его духовного паразитизма и распада. Рисуя губернский город с его патриархальными нравами, Гоголь рассказывает о том, как жители города «душевно полюбили» Чичикова, и тут же ядовито добавляет, что после слухов о том, что он «миллионщик», «полюбили еще душевнее». Однако, когда по городу пошли слухи о загадочных поступках Чичикова, те же душевные друзья сразу же отвернулись от него. Фальшь этого показного «добродушия», «семейственности», за которой скрываются, в сущности, гнусненькие проделки, зависть, сплетни, подсиживание друг друга, – Гоголь иронически подчеркивает самым стилем фамильярно-добродушного обращения и жаргона, на котором изъяснялись чиновники: «… они все были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг, Илья Ильич! Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!..» «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» Словом, все было очень семейственно». Фамильярное «простодушие» не только свидетельствовало о «семейственности» нравов, но и было насквозь лицемерно, прикрывая ту грязь и хищничество, которые и являются подлинной сущностью этого общества. «Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе, – насмешливо пишет Гоголь, – он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую».
Чиновники города – благонамеренные и усердные исполнители правительственных «предначертаний», боящиеся даже самой тени какого-нибудь либерализма и вольнодумства. С уничтожающей иронией рассказывает Гоголь, как, подвыпив по случаю совершения Чичиковым купчей, после шампанского и венгерского, которое «придало еще более духу и развеселило общество», они «об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всем, об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей». Гоголь разоблачает духовное лакейство, раболепное преклонение перед властью провинциального общества, видя в этом одну из основных причин отсталости страны и угнетения народа.
Самая «образованность», «просвещенность» в этом обществе столь же поверхностны и лицемерны: «Многие были не без образования, – иронически говорит Гоголь, – председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит» и слово: «чу!», так что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза». Председатель палаты, декламирующий «Людмилу» Жуковского и при этом зажмуривающий глаза, – как раз столь семейственно и помог Чичикову оформить покупку «мертвых душ».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гоголь: Творческий путь"
Книги похожие на "Гоголь: Творческий путь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Степанов - Гоголь: Творческий путь"
Отзывы читателей о книге "Гоголь: Творческий путь", комментарии и мнения людей о произведении.