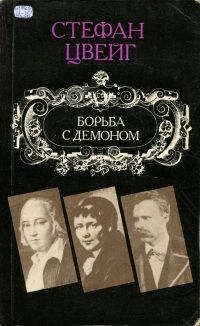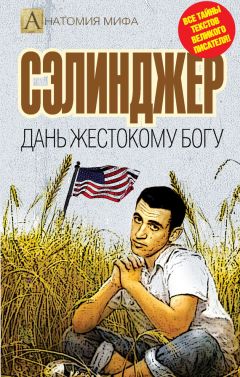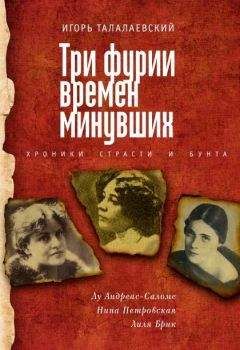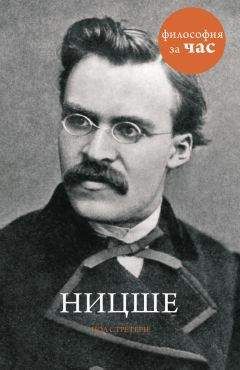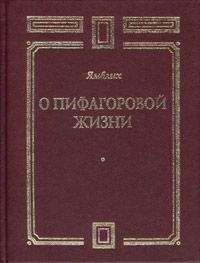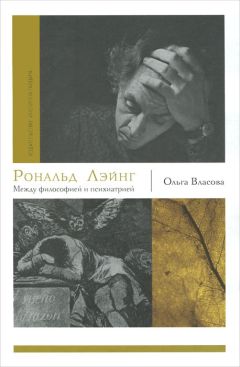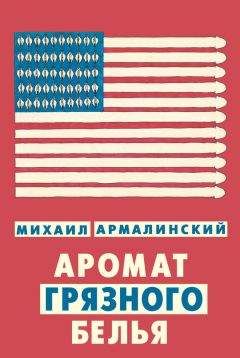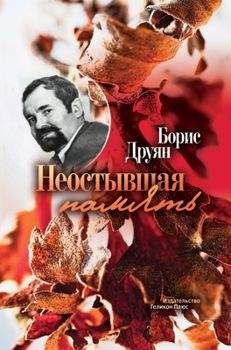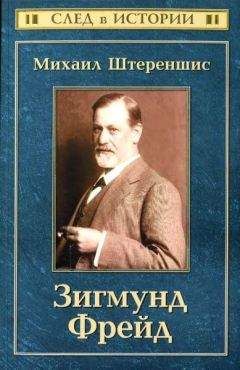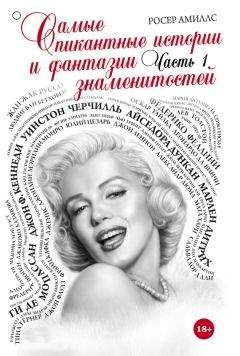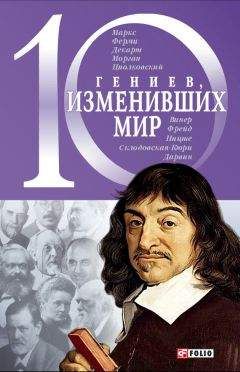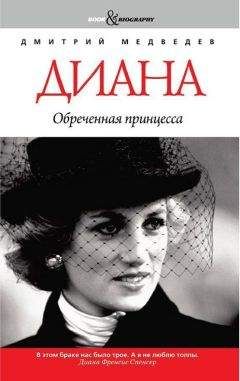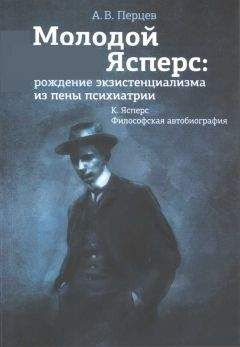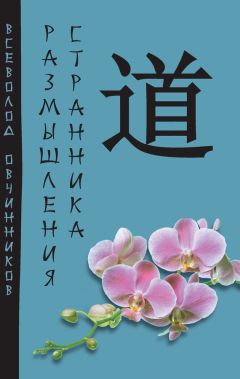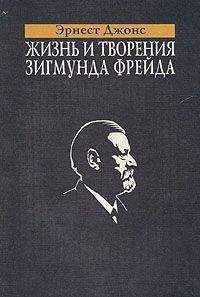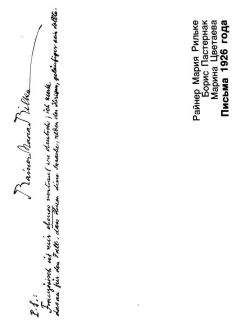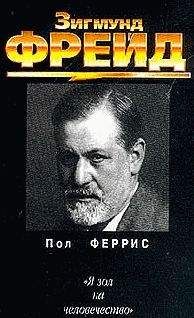Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
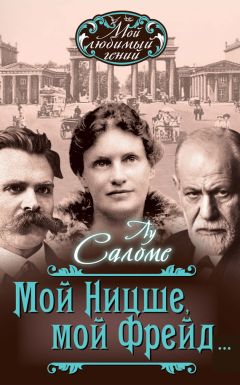
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)"
Описание и краткое содержание "Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)" читать бесплатно онлайн.
Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведает вам сама.
На деле речь шла о том, что в революционизирующейся России и мужчины и женщины относились к своему народу, как дети относятся к родителям. Хотя именно они, по большей части выходцы из кругов интеллигенции, несли в народ образование, просвещение, знания, в житейском, человеческом смысле образцом для них был крестьянин, несмотря на свои суеверия, пьянство и неотесанность; такая точка зрения была свойственна Толстому, которому только крестьянская община помогла понять, что значит смерть и жизнь, труд и молитва. Это уже не была любовь по обязанности, любовь из снисхождения; в любви к народу накапливались коренные, первозданные, по-детски непосредственные силы их собственной душевной жизни, от влияния которых вступающая во взрослую жизнь честолюбивая личность никогда не освобождается до конца. Мне кажется, это до сих пор влияет в России и на отношения между полами, несколько снижает высоту любовных связей, которые в Западной Европе за почти тысячу лет стали чрезмерно возвышенными и романтичными. (Только у одного-единственного автора нашла я верное объяснение эротических отношений в России – в замечательной книге очерков принца Карла Рохана «Москва», вышедшей в 1929 году.) Как и везде, здесь случаются всякого рода эротические излишества и невоздержанность, может, даже более дикие, чем в других местах, но поверх всего этого собственно духовная жизнь протекает в таких примитивно девственных, инфантильных формах, какие вряд ли встретишь у народов, придерживающихся более «развитых», более «эгоистичных» форм любовных отношений. Поэтому «коллективное» в русском народном языке означает именно тесную связь, сердечную близость, а не благовоспитанную принципиальность, благоразумие или рассудочность. Все экстатическое там полностью обращено внутрь, вопреки подчеркиванию разницы между полами благодаря этой душевной открытости пассивная жертвенность переплетается с внезапно возникающей революционной активностью. Многое прояснилось для меня позднее, во время моего третьего пребывания в Париже, в 1910 году, когда я благодаря доброте сестры одной террористки получила доступ в их круг. Это было после трагической истории с Азефом, когда самый необъяснимый и чудовищный из всех двойных агентов, разоблаченный Бурцевым, оставил после себя неописуемое отчаяние. Я тогда буквально нутром почувствована, насколько отчаянная решительность кучки революционеров-бомбометателей, готовых без раздумий пожертвовать своей жизнью во имя веры в свою смертоносную миссию, соответствует такой же бездумной, пассивной набожности крестьянина, который принимает свой удел, как будто он дан ему Богом. Истовая религиозность в одном случае пробуждает к покорности, в другом – к активному действию. Обеим жизням, всему тому, что проявляется в них частным образом, предпослан девиз, взятый уже не из приватной сферы, девиз, благодаря которому и мучения крестьян, и мученичество террористов осознают как свою спокойную терпеливость, так и внезапные приливы активности. Когда социальные революционеры после почти столетних трагических усилий из-за успехов большевизма были поставлены в безвыходное положение, поскольку время далеко обогнало их совместные мечты, все та же истовая религиозность народа привела к появлению третьего типа: это был освобожденный пролетарий, которого привлекли к соучастию в трудах и успехах, то есть благодаря новым способам принуждения, в тысячекратно воссозданной нищете – и в оргии добровольной активности. Ведь его прежняя пассивная доверчивость вознаграждена была блестящей видимостью неслыханных свершений в жизни народа и страны, свершений, которые казались ему такими же чудесными, как ожидаемое христианами в канун 1000 года Царство Божие на земле. Поэтому он стал естественным врагом своего брата, крестьянина, на долю которого выпали одни только неприятности: его мирный примитивный деревенский коммунизм был разрушен абстрактными политическими предписаниями, которые не имели ничего общего с его прежней покорностью и преданностью, так как были направлены против религии и веры в Бога. Таким образом, крестьянство, сплотившееся вокруг своих крестов и колоколов и своих представлений о Боге, увидело в большевизме враждебную, дьявольскую силу.
Нередко отмечают, что почти религиозная пропаганда, благодаря которой большевизм овладел сознанием пролетариата и, так сказать, подменил предание о Христе легендой о Ленине, ловко и целенаправленно использовала набожность и доверчивость этого народа; но каким бы верным ни было это замечание, оно мало что способно объяснить – как невозможно было объяснить феномен религиозности хитростью и властолюбием священнослужителей. В данном случае это, вне всякого сомнения, результат колоссальных экспериментов, которые с помощью непреодолимой тяги к террору раз за разом подталкивали Россию к непредсказуемым, рискованным шагам; независимо от того, заканчивались эти шаги поражением или победой, они связаны с истовой религиозностью русского человека. Именно она создает для материалистической направленности политических теорий, для механистического фактора вызывающей восхищение техники совершенно иную, изначально пропитанную религиозностью почву. Совсем не такую, какая существует в нормально вызревающих культурах, не такую, как в странах, где эти теории зарождались.
Пожалуй, можно сказать, что кое-какие черты характера этого народа проявились уже во время запоздалой христианизации России в 900-х годах от рождества Христова. Она была проведена не благодаря принуждению завоевателей, как эго нередко бывало, а посредством выбора специально посланными людьми, которым византийское христианство показалось более соответствующим русскому характеру, чем ислам или буддизм, и которое необратимо обрусело. Когда переписанные византийские документы постепенно подверглись такому «обрусению», что сама церковь (патриарх Никон) была вынуждена их сравнивать и исправлять, русским это показалось уже чересчур далеко идущим религиозным просвещением, религиозным вмешательством в их собственные дела. Тогда примерно треть всех верующих отвернулась от церкви и вошла в староверческий «раскол» (1654). Тогда же появилось выражение: «Кто любит и боится Бога, в церковь не ходит». Таким образом, то, что было заимствовано у христианства, глубоко соответствует русскому характеру – но живет в нем самостоятельной жизнью; точно также те, кто остался верен церкви, почитают не высшее духовенство, не иерархические установления, а странников, отшельников, анахоретов, по стопам которых мог бы пойти каждый, в этом почитании присутствует тайное признание того, что каждый мог бы оказаться на их месте. И наоборот, каждый может оказаться на месте осужденных или преступников; об этом говорит и народный обычай дарить что-нибудь арестантам на их долгом и трудном пути в Сибирь – яйцо, кусок хлеба или поясок. Дело тут не только в сочувствии, но и в чем-то другом; об этом напомнил мне во время прохода каторжников один крестьянин: «Их это не миновало». Неумение выносить дифференцированное суждение о человеке, пренебрежение унаследованными критериями оценки связано с тем, что все сводится к Богу и ставится в полную зависимость от него. Эта детская доверчивость слышится в традиционном утешении, когда страдания народа достигают высшей точки: «Все нас забыли, кроме Бога».
Легко понять, что такие религиозные умонастроения служили питательной почвой не только для церкви, но и для широко распространенного сектантства, в котором было множество самых разных, нередко противоречивших друг другу проявлений – от брутального аскетизма скопцов с их принципом кастрации до нелепейших, отвратительных чувственных оргий, которые под видом сексуальных мистерий включались в молебен; или до по-человечески прекрасного, умиротворенно-радостного настроения, которым так восхищался Толстой, и которое в известном смысле сделало его апостолом русского крестьянства. В полной мере это объяснимо только психопатологией Толстого – спутницей его гения. Точно так же стали воспринимать с недавних пор фигуру Распутина, то, как он выставлял напоказ свое оргиастическое и беспутное поведение святого старца, – как его личную отвратительную черту, а не как особенность его секты.
В примитивных, недифференцированных натурах противоположности соединяются без помех. Но сверх того русскому характеру присущ явный недостаток дуализма, вследствие чего не происходит достаточно строгого различения между мечтами и реальным опытом, между «небесным» и «земным»: первое воспринимается еще слишком конкретно, второе еще не отягчено виной. Это время от времени подтверждают те, кто родился не в России, но провел в ней длительное время и поневоле сильно к ней привязался. То же произошло и с нами. Особенно сильно любил «простой народ» мой отец; как бы часто и много он ни ругал его, в его словах всегда звучало уважение и даже благоговение. Эти чувства он прививал и нам. Что касается мамы, то в ее отношении к греко-католической вере всегда чувствовалось, что она эмигрантка из страны с евангелическим вероисповеданием. А я? Из-за своей первой большой любви я в ранней юности была отлучена от русского народа, так как мой друг-иностранец все свои интересы и помыслы связывал с заграницей: в условиях России его лучшие силы и дарования не нашли применения. Но когда я приезжала на родину из Швейцарии или Германии, когда пересаживалась на русской границе в более широкий и тяжелый вагон и проводник, укладывая меня спать, называл «матушкой» или «голубкой», когда я вдыхала запах мохнатой овчины или аромат русских сигарет, тогда троекратный звонок – старомодный сигнал отъезда – пробуждал во мне незабываемое чувство встречи с родиной. Такое не случалось ни при возвращении в родительский дом, ни когда я тосковала по родине или вспоминала о впечатлениях детства. Я и сегодня вряд ли смогла бы точно определить это чувство; знаю только, что в своей глубинной сути оно оставалось неизменным все годы моей удивительной юности, заполненной совсем другими делами и очень далекой от России умственной работой… Постепенно оно переместилось в занятия и исследования, во время которых я встретила в 1897 году Райнера Марию Рильке. Две наших совместных поездки в Россию явились следствием все нараставшего желания увидеть эту страну. Для каждого из нас эти поездки стали переживанием особого рода: для него в связи с подъемом его творчества и тем, что Россия поставляла ему соответствующие поэтические образы, почему он и взялся за изучение ее языка; для меня – просто упоением встречи с русской действительностью в ее полном объеме: вокруг меня раскинулась эта бескрайняя страна с ее народом, живущим в нищете, исполненным преданности и ожидания; она окружала меня – такая поразительно реальная, что я никогда больше – за исключением самых сокровенных личных переживаний – не испытывала впечатлений такой силы. Но необычность этих совместных поездок заключалась в том, что в одно и то же время, в одних и тех же обстоятельствах нам открывалось то, в чем ощущал потребность каждый из нас Райнер черпал творческое вдохновение, я утоляла давнюю жажду воспоминаний о прошлом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)"
Книги похожие на "Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)"
Отзывы читателей о книге "Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.