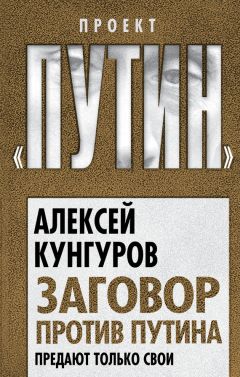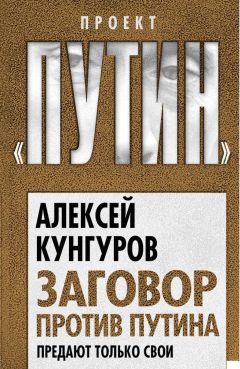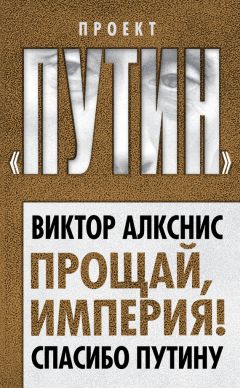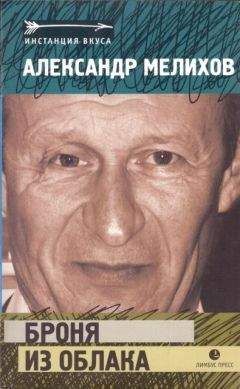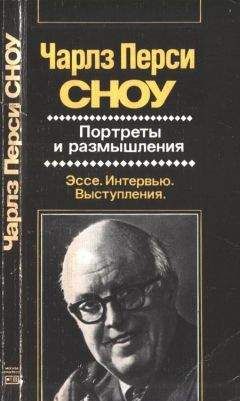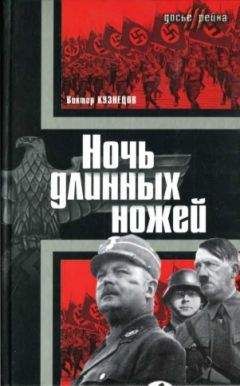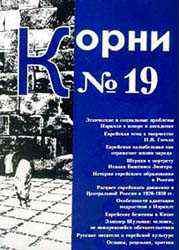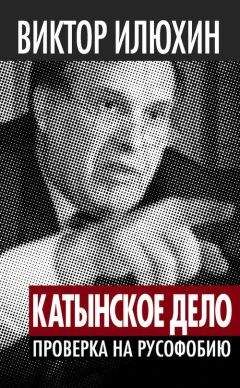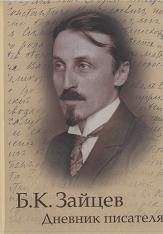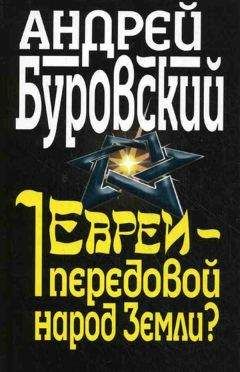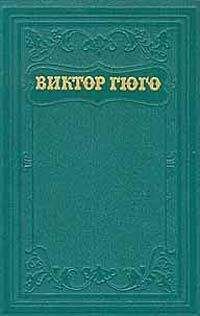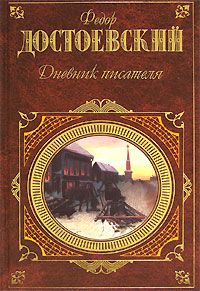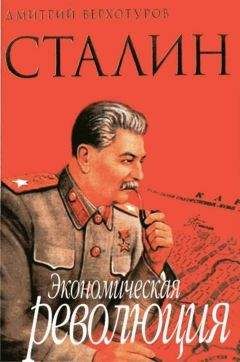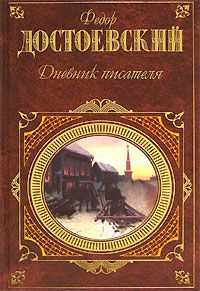Виктор Гюго - Что я видел. Эссе и памфлеты
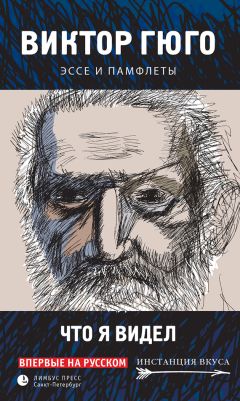
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Что я видел. Эссе и памфлеты"
Описание и краткое содержание "Что я видел. Эссе и памфлеты" читать бесплатно онлайн.
Виктор Гюго (1802–1885) известен русскому читателю прежде всего как автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Девяносто третий год» и др. Но роль Гюго в культурной, общественной и политической истории XIX века – причем не только Франции, но и всей Европы – несоизмеримо шире. Он был одним из самых ярких публицистов эпохи, к его голосу прислушивался весь мир. В этой книге собраны самые значительные выступления писателя – в печати и в парламентских слушаниях – по самым насущным вопросам культуры и политики его времени. Они и сейчас сохраняют свою актуальность.
Значительная часть публикуемых текстов переведена на русский язык впервые.
Эта поэма, эта ода первобытных времен – это «Бытие».
Однако постепенно это отрочество мира проходит. Все сферы расширяются; семья становится племенем, племя – нацией. Каждая из этих человеческих групп располагается вокруг одного общего центра, и вот вам королевства. Общественный инстинкт следует за инстинктом кочевым. Стоянка сменяется селением, палатка – дворцом, ковчег – храмом. Главы этих зарождающихся государств, конечно, еще пастыри, но уже пастыри народов; их пастырский посох уже имеет форму скипетра. Все останавливается и определяется. Религия обретает форму; обряды упорядочивают молитву; догматы регулируют культ. Так священник и король делят между собой отцовскую власть над народом; так на смену патриархальной общине приходит теократическое общество.
Тем временем народам становится слишком тесно на земном шаре. Они мешают друг другу и ссорятся между собой; отсюда – столкновения империй, война. Они вторгаются в пределы друг друга; отсюда – перемещение народов, путешествия. Поэзия отражает эти великие события; от идей она переходит к делам. Она воспевает века, народы, империи. Она становится эпической, она создает Гомера.
Гомер действительно возвышается над античным обществом. В этом обществе все просто, все эпично. Поэзия – это религия, религия – это закон. Девственности первой эпохи пришло на смену целомудрие второй. Отпечаток какой-то торжественной важности присутствует везде – в семейных нравах так же, как в нравах общественных. Народы сохранили от бродячей жизни только уважение к чужеземцу и путешественнику. У семьи есть отечество; все привязывает ее к нему; существует культ очага, культ могил.
Мы повторяем это: выражением подобной цивилизации может быть только эпопея. Эпопея будет здесь принимать множество форм, но никогда не лишится своего характера. Пиндар больше жреческий, чем патриархальный, больше эпический, чем лирический. Если летописцы, необходимые современники этой второй эпохи мира, принимаются собирать легенды и начинают считаться с веками, они напрасно стараются, хронология не может изгнать поэзию; история остается эпопеей. Геродот – это тот же Гомер.
Но главным образом эпопея проявляется повсюду в античной трагедии. Она поднимается на греческую сцену, ничуть не утрачивая своих гигантских, бесконечных размеров. Ее персонажи – это еще герои, полубоги, боги; ее пружины – сновидения, оракулы, рок; ее картины – перечисления, погребения, битвы. То, что пели рапсоды, декламируют актеры, вот и все.
Более того. Когда все действие, все зрелище эпической поэмы перешло на сцену, то, что остается, берет хор. Хор истолковывает трагедию, поддерживает героев, дает описания, призывает и гонит день, радуется, сожалеет, иногда описывает декорации, объясняет нравственный смысл сюжета, льстит народу, который его слушает. Итак, что же такое хор, этот странный персонаж, помещенный между представлением и зрителем, если не поэт, возвышающийся над своей эпопеей?
Театр древних, как их драма, величественный, торжественный, эпический. Он может вместить тридцать тысяч зрителей; здесь играют под открытым небом, прямо на солнце; представления длятся целый день. Актеры усиливают свой голос, надевают маски, увеличивают рост; они становятся гигантскими, как их роли. Сцена огромна. Она может одновременно изображать внутреннюю и внешнюю часть храма, дворца, лагеря, города. Там разворачиваются огромные представления. Это, и мы цитируем только по памяти, Прометей на своей горе; Антигона, с высоты башни высматривающая во вражеской армии своего брата Полиника («Финикиянки»); Эвадна, бросающаяся с вершины скалы в огонь, где сжигают тело Капанея («Просительницы» Еврипида); корабль, входящий в порт, с которого спускаются пятьдесят принцесс с их свитой («Просительницы» Эсхила). Архитектура и поэзия, здесь все носит монументальный характер. В античности нет ничего более торжественного, ничего более величественного. Ее культ и ее история соединяются в ее театре. Ее первые актеры – жрецы; ее сценические игры – религиозные церемонии, народные праздники.
Последнее замечание, окончательно доказывающее эпический характер этой эпохи: дело в том, что сюжетами, которые она разрабатывает, равно как и формами, которые она принимает, трагедия лишь повторяет эпопею. Все древние трагики подробно пересказывают Гомера. Те же фабулы, те же катастрофы, те же герои. Все черпают из гомеровской реки. Это по-прежнему «Илиада» и «Одиссея». Так же как Ахилл увлекал за собой Гектора, греческая трагедия кружится вокруг Трои.
Между тем век эпопеи приходит к концу. Так же как общество, которое она представляет, эта поэзия изнашивается, вращаясь вокруг самой себя. Рим подражает Греции, Вергилий копирует Гомера; и как будто для того, чтобы прийти к достойному концу, эпическая поэзия угасает, породив своего последнего поэта.
Время пришло. Новая эпоха начинается для мира и для поэзии.
Спиритуалистическая религия вытесняет материальное, поверхностное язычество, проникает в сердце античного общества, убивает его и в труп этой дряхлой цивилизации вкладывает росток цивилизации новой. Эта религия совершенна, потому что она истинна; между своей догмой и своим культом она глубоко запечатывает мораль. И прежде всего, как первую истину, она разъясняет человеку, что у него две жизни: одна – преходящая, другая – бессмертная; одна – земная, другая – небесная. Она показывает ему, что он двоякий, как его судьба, что в нем сосуществуют животное и разум, душа и тело; одним словом, что он – точка пересечения, общее звено обеих цепей тех существ, которые охватывают мироздание, существ материальных и существ бестелесных, из которых первые вырываются из камня, чтобы прийти к человеку, вторые исходят из человека, чтобы завершиться в Боге.
Некоторые античные мудрецы, возможно, подозревали часть этой истины, но только с Евангелия начинается ее полное, ясное и широкое раскрытие. Языческие школы двигались на ощупь во мраке, настойчиво добиваясь лжи, так же, как и истины на своем полном случайностей пути. Некоторые из их философов проливали порой на предметы слабый свет, который освещал лишь одну их сторону, оставляя другую в еще большей тьме. Отсюда все эти призраки, созданные древней философией. Существовала только божественная мудрость, которая должна была заменить широким и ровным светом все эти мерцающие отблески человеческой мудрости. Пифагор, Эпикур, Сократ, Платон – это факелы; Христос – это дневной свет.
Впрочем, нет ничего более материалистичного, чем античная теогония. Даже не помышляя о том, чтобы подобно христианству отделять дух от плоти, она придает форму и лицо всему, даже сущностям, даже разуму. В ней все видимо, осязаемо, облечено в плоть. Ее боги нуждаются в облаке, чтобы скрыться от взоров. Они пьют, едят, спят. Их ранят, и у них течет кровь; их калечат, и вот они остаются хромыми навеки. У этой религии есть боги и половинки богов. Ее молния куется на наковальне, и в нее, кроме прочих составных частей, вводят три нити крученого дождя, «tres imbris torti radios»1. Ее Юпитер подвешивает мир на золотую цепь; ее солнце поднимает колесница, запряженная четырьмя лошадьми; ее ад – это бездна, вход в которую география отмечает на земном шаре; ее небо – это гора.
Вот почему язычество, которое лепит все свои создания из одной глины, умаляет божество и возвышает человека. Герои Гомера почти под стать богам. Аякс бросает вызов Юпитеру, Ахилл равен Марсу. Мы только что видели, что христианство, напротив, коренным образом отделяет дух от материи. Оно разверзает пропасть между душой и телом, между человеком и Богом.
Чтобы не опустить ни одной черты в очерке, на который мы отважились, обратим внимание на то, что в эту эпоху вместе с христианством и с его помощью в сознание народов проникало новое чувство, незнакомое древним и весьма развитое у наших современников, чувство, которое больше, чем серьезность, и меньше, чем печаль, – меланхолия. И действительно, могло ли сердце человека, до тех пор скованное чисто иерархическими и жреческими культами, не пробудиться и не почувствовать, как какая-то неожиданная способность пускает в нем ростки под влиянием религии человеческой, потому что она божественна, религии, которая из молитвы бедняка создает богатство богача, религии равенства, свободы, любви к ближнему? Мог ли он не увидеть все с новой стороны, с тех пор как Евангелие показало ему душу через чувства и вечность после жизни?
Впрочем, в этот самый момент мир претерпевал столь глубокие перемены, что не могло не произойти того же самого в умах. До тех пор гибель империй редко проникала в сердце народа; низвергались короли, исчезали величества, ничего более. Молния поражала лишь высшие сферы, и, как мы уже указывали, казалось, что события развиваются со всей торжественностью эпопеи. В античном обществе индивидуум был расположен так низко, что бедствие, чтобы его поразить, должно было опуститься до его семьи. Поэтому он почти не знал других несчастий, помимо домашних горестей. Было практически невозможно, чтобы общие беды государства могли привести в беспорядок его жизнь. Но в тот момент, когда утвердилось христианское общество, старый континент был потрясен. Все было поколеблено до самых корней. События, призванные разрушить древнюю Европу и построить новую, сталкивались, стремительно и неустанно развивались и в беспорядке толкали народы – одних к свету, других во мрак. На земле поднялся такой шум, что какая-то часть его не могла не дойти до сердца народов. Это было больше чем эхо, это был ответный удар. Человек, перед лицом этих великих превратностей, замыкаясь в себе, начинал испытывать сочувствие к человечеству и размышлять о горькой насмешке жизни. Из этого чувства, которое для язычника Катона было отчаянием, христианство сделало меланхолию.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Что я видел. Эссе и памфлеты"
Книги похожие на "Что я видел. Эссе и памфлеты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Гюго - Что я видел. Эссе и памфлеты"
Отзывы читателей о книге "Что я видел. Эссе и памфлеты", комментарии и мнения людей о произведении.