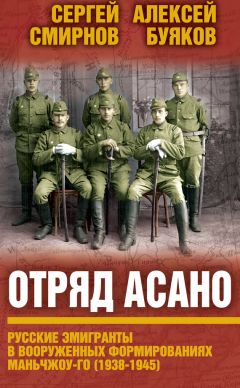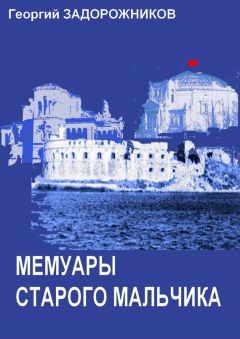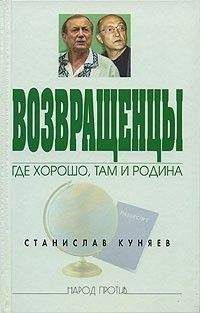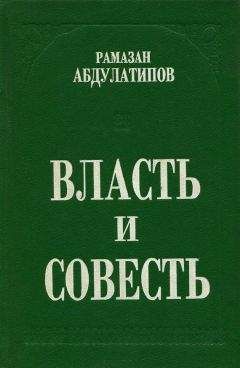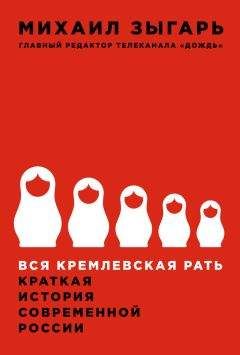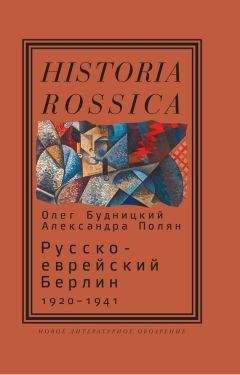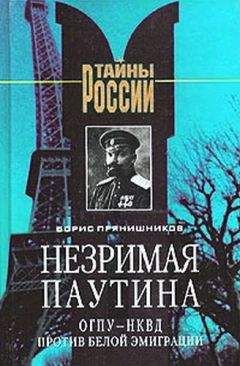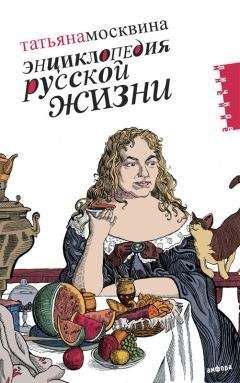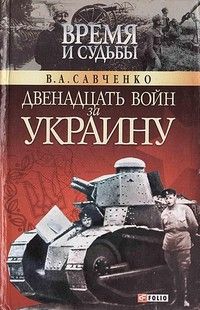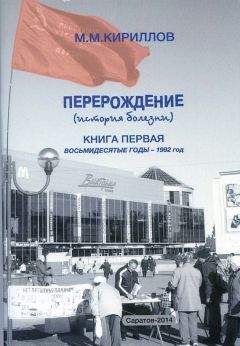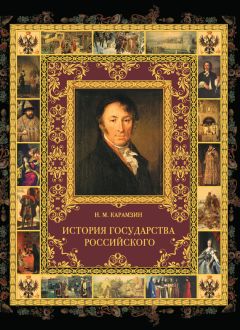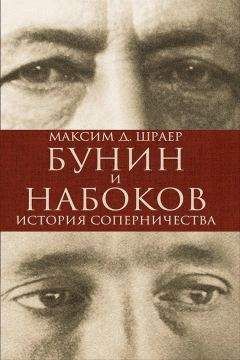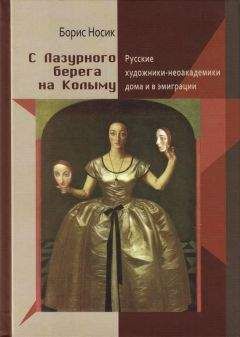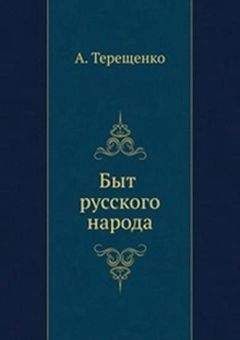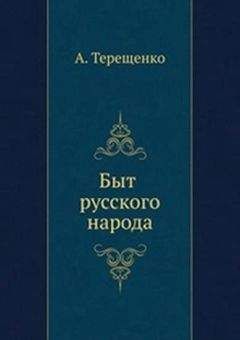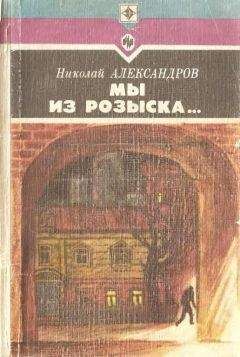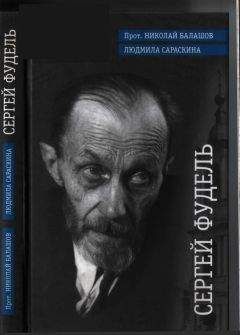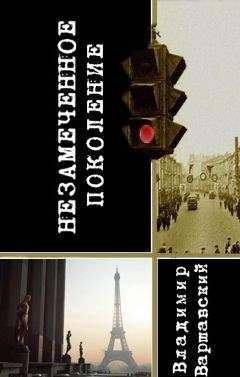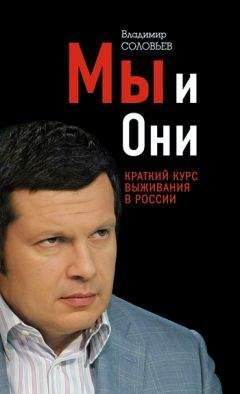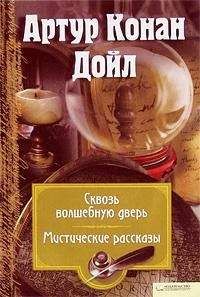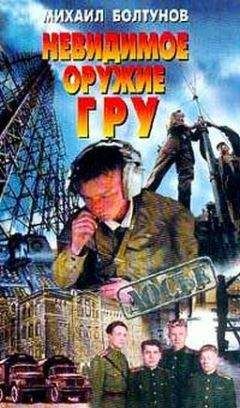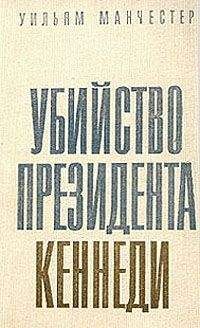Марк Вишняк - Годы эмиграции
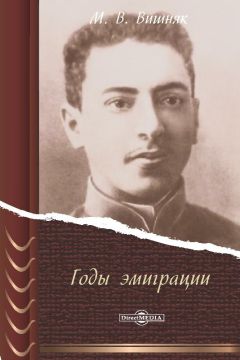
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Годы эмиграции"
Описание и краткое содержание "Годы эмиграции" читать бесплатно онлайн.
Вниманию читателей предлагаются мемуары Марка Вениаминовича Вишняка (1883–1976) – российского публициста, литератора, эмигранта, известного деятеля культуры русского зарубежья. События, описанные в книге, охватывают 1919–1969 гг. Автор рассказывает о социально-политической обстановке в Европе и России, о своей жизни в эмиграции
Оставался еще вопрос кому была на руку нынешняя публицистика Ульянова и поднятая вокруг нее шумиха? На это давала ответ следующая справка (тоже «донос» общественному мнению): уже в июле 1959 года некий Русланов в «За возвращение на Родину» № 59/354 восхвалял «эмигрантского историка и писателя Н. Ульянова» за то, что тот «в еще более резкой форме, чем Лев Любимов (Перебежавший к коммунистам сотрудник гукасовского «Возрождения». – М. В.) толкует об идейном, духовном и политическом вырождении эмиграции», – «его формулировки беспощадно определенны». Ульянов «не стеснялся в выражениях», торжествовал советский подголосок, знавший толк в этом деле, еще до последних «формулировок» Ульянова. Можно было себе представить, как были удовлетворены коммунисты и комягуноиды его последними «формулировками».
ГЛАВА VI
О книгах: Н. П. Вакара «Корневище советского общества. Воздействие крестьянской культуры России на советское государство» и Мартина Мэлии. Александр Герцен и Рождение русского социализма 1812–1855». – Мои книги: «Дань Прошлому» и «Современные Записки». «Воспоминания редактора». – Как и почему порвалась моя многолетняя связь с «Новым Журналом». – Три версии. – Отношения с «Социалистическим Вестником» и «Русской Мыслью». – Безуспешные попытки печататься в американских журналах и книгоиздательствах. – Почему пишу и о мелочах жизни, поминаю не всегда добрым словом и покойных и печатаю книгу при жизни. – «Чествования». – Почему конечный итог долгой и в общем благополучной жизни малоутешителен
Изложенные выше публичные схватки в печати, в которые я в большинстве случаев вовлекался, по моему мнению, мимовольно, в порядке самообороны, а по убеждению противников и даже некоторых друзей, не одобрявших слишком частых моих выступлений, как, например, Кусковой, сам зря ввязывался, – далеко не исчерпывали моей «оборонительно-политической» публицистики. Но упомянутые были более значительными. Бывали, впрочем, у меня критические статьи и на темы, лично меня никак не касавшиеся, но существенные и меня глубоко задевавшие общественно-политически. Такой темой была написанная Николаем Платоновичем Вакаром рукопись под заглавием «Корневище советского общества. Воздействие крестьянской культуры России на советское государство».
Н. Вакар был постоянным сотрудником «Последних Новостей» Милюкова. Я знал его по Парижу, но поверхностно. Ближе сошелся я с ним в Америке, где он сменил, как и многие другие, профессию журналиста на преподавание русского языка и составление специальных книг: по истории Белоруссии и библиографию о ней. Я был немало удивлен, когда, закончив новую рукопись, Вакар попросил меня ознакомиться с ней и высказать откровенно свое мнение. Я, конечно, согласился. Автор приехал в Нью-Йорк из провинции, где занимал кафедру. За завтраком мы обменялись мнениями, и обмен ими кончился, как и начался, дружески, – хотя я и не приглушил своих возражений, посланных письменно Вакару заранее, а он не отступил ни в чем от своего предвзятого, на мой взгляд, понимания. Я считал и считаю книгу Вакара очень интересной, но совершенно неверной в исходных положениях, исторически, политически – всячески. Подробнее я об этом, как обыкновенно, написал в «Социалистическом Вестнике» и «Русской Мысли».
Существо сводилось к тому, что современный коммунизм, по выражению Вакара, есть анахронизм. В его этике и эстетике – черты атавизма. Этим объясняется его успех в отсталых странах. Те же черты роднят его с нацизмом, фашизмом и прочими диктатурами, что свидетельствует о возможности поворота цивилизации в передовых странах в обратную сторону. Дальше, больше и хуже. Советский деспотизм – от крестьянского и сельского деспотизма. «Крестьянская семья – тоталитарное общество в миниатюре», подчеркивал автор. Если говорить о крестьянской солидарности, она «скорее стада – нежели клана». Если советские коммунисты были по преимуществу крестьяне, этот факт, по мнению Вакара, имел и имеет большее значение, чем то, что они стали и остались коммунистами. В русских крестьянах XX века он видел «пережиток средневековья, частично даже примитивной эпохи, не во многом изменившейся с зачатков оседлости человеческого общества» (Позднее автор пояснил, что основное в построении его книги и в рассуждениях это – «различие между политической и культурной» категориями или между «крестьянином» и «мужиком» с его «примитивно-земледельческой полукультурой».).
Вакар употребил даже выражение «дикари» и, чтобы быть более убедительным, ссылался на схожие отзывы иностранных и русских авторов: Ле Бона (1894 г.), Бунина (1911 г.), Пильняка (1922 г.), Энгельса – «примитивный бараний инстинкт русских», – Бердяева, Троцкого, Пастернака, батько Махно и др.
В истории Советского Союза Вакар насчитывал две и даже три революции. Начало второй коммунистической «датируется коллективизацией сельского хозяйства, а конец – большой чисткой 1936–1938 гг.... При Сталине бывшие крестьяне завладели большевистской властью, вычистили вождей ноябрьской (октябрьской) революции до одного (? – М. В.) и закончили разрушение того, что до 1917 г. было известно, как русская цивилизация». Крестьянское происхождение вождей «второй революции» Сталина и «третьей» Хрущева и Козлова (когда Вакар писал, Козлов был кандидатом в преемники Хрущева. – M. B.) выражали чаяния и устремления русского крестьянства.
Толкование Вакара, не по заданию, а фактически, было чрезвычайно на руку тем марксистам, которые видели в ленинизме не развитие учения Маркса, а его извращение на самобытный, русский лад. Он был на руку и тем, кто не без оснований расценивал советскую теорию и практику не как прогресс, а как регресс и возвращение в новых формах к додемократической эпохе. Свою рукопись Вакар предложил издательству Харпер, в котором ответственную должность занимала Элизабет Калашникова, вторая жена нашего Калашникова, бывшего в том же, одном из известнейших в Нью-Йорке, издательстве Нагрег чтецом-экспертом поступавших на русском языке рукописей. Не снесясь со мной и даже не зная, что я читал рукопись, Николай Сергеевич дал отрицательный отзыв о рукописи Вакара, – по неизвестным мне мотивам. Но вопрос был решен женой Калашникова, осведомленной о рукописи со слов мужа. Она высказалась в пользу ее напечатания, и книга вышла. Заслуживает внимания, что в американской печати она встречена была общим сочувствием, тогда как в русской, несмотря на постоянные разномыслие и разногласие, она не встретила ни с чьей стороны одобрения, часто по различным основаниям.
Отрицательное отношение к названной книге Вакара мне представляется необходимым – и справедливым – восполнить хотя бы краткой, но общей характеристикой этого незаурядного многосторонне даровитого эмигранта, не раз сменявшего вехи политически и профессионально. Из «белого воина» он превратился в постоянного сотрудника газеты Милюкова, а вынужденный с приходом Гитлера покинуть Францию, он проделал в Америке ряд новых превращений. Перейдя к преподаванию и научным занятиям, он стал профессором университета и автором ученых трудов о Белоруссии и русском языке. Его последняя книга о вошедших в советскую речь и литературу изменениях вызвала положительную оценку не только в эмиграции: «Известия» Академии наук СССР тоже одобрили труд бывшего «белогвардейца». Этим не исчерпывается жизнедеятельность Вакара. Очутившись, как профессор, в отставке по возрасту, и закончив свой 2-й том о языке, Н. П. стал профессиональным художником, – за его картинами гонялись воры, продавцы, музеи и устроители художественных выставок.
Мои выступления в печати не всегда носили отрицательный характер. Бывали правда, много реже – и положительные, даже чрезвычайно лестные отзывы. Таким был, например, мой пространный разбор книги Мартина Мэлии, любимого ученика Карповича, который прочил его в свои заместители на кафедре в Гарварде. Но Мэлия со своей докторской работой и соответствующим званием запоздал, кафедра в Гарварде была занята другим учеником Карповича, и Мэлия стал профессором русской истории в университете Бэркли (Калифорния). Переработав в книгу свою докторскую работу, он опубликовал ее под заглавием «Александр Герцен и рождение русского социализма. 1812–1855».
В своем отзыве об этой книге в «Социалистическом Вестнике» и «Русской Мысли» я назвал ее «замечательной, какой, насколько я осведомлен, не было в иностранной литературе, и которая заняла бы почетное место и в русской»! «Увлекательная и местами захватывающая, она осведомляет, разъясняет и поучает».
Работа страдала, однако, одним крупным органическим недостатком. Автор ограничил тему хронологически годом смерти Николая I, – что было произвольно и искусственно. После 1855 года Герцен прожил еще 15 наиболее зрелых, продуктивных и определивших его жизненное дело лет. Мэлия, видимо, и сам сознавал произвольность установленных им хронологических рамок и заглавия книги. Он допускал, что она «могла бы быть названа и иначе: “Герцен и поколение русского идеализма”», – что гораздо ближе передавало содержание книги. С годами Герцен всё дальше и решительнее отходил от наивно-восторженных и утопических настроений юности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Годы эмиграции"
Книги похожие на "Годы эмиграции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марк Вишняк - Годы эмиграции"
Отзывы читателей о книге "Годы эмиграции", комментарии и мнения людей о произведении.