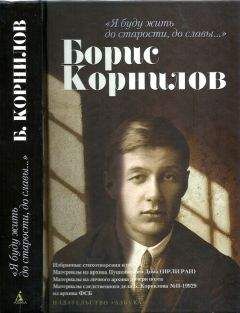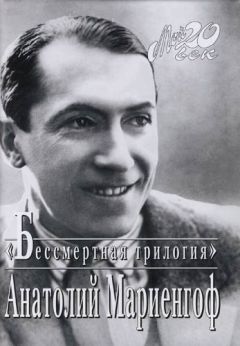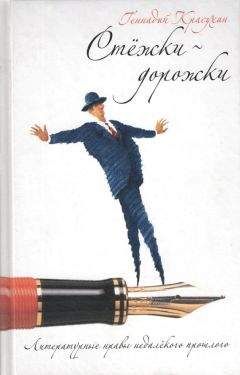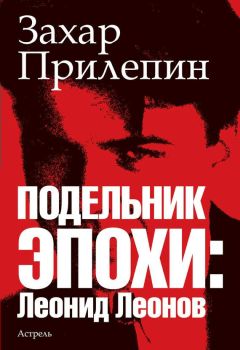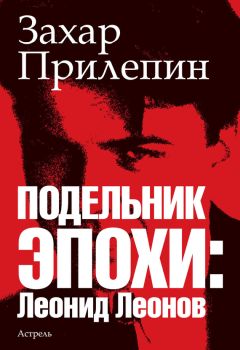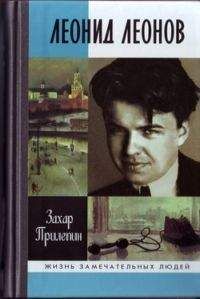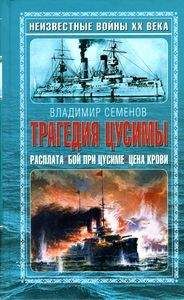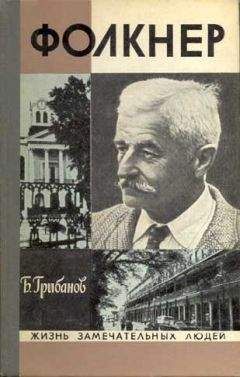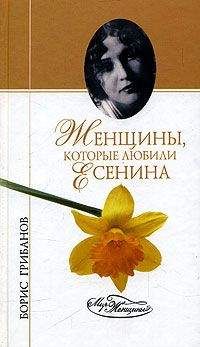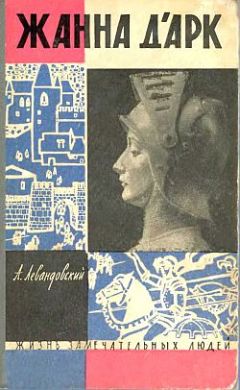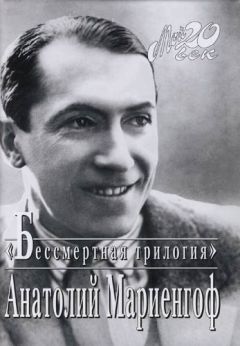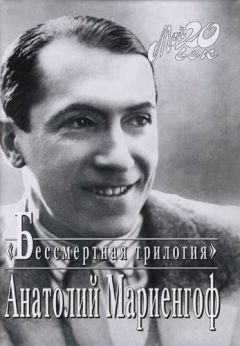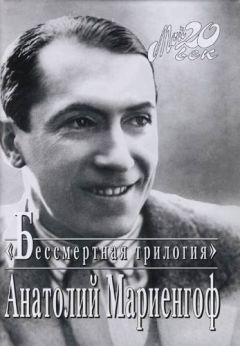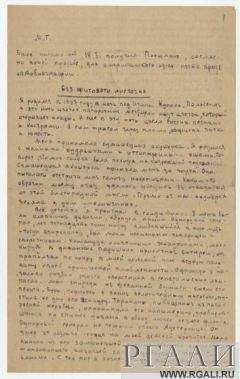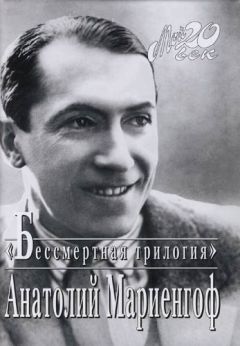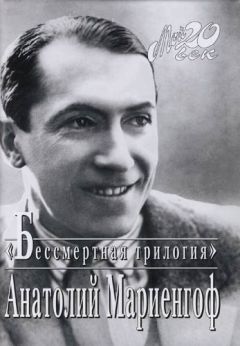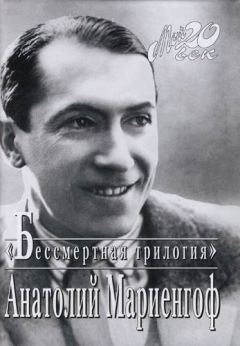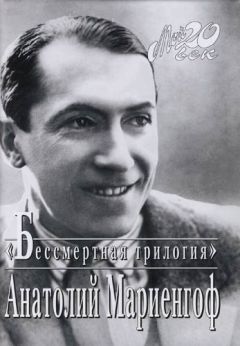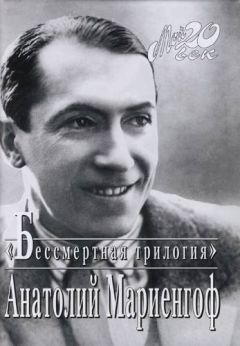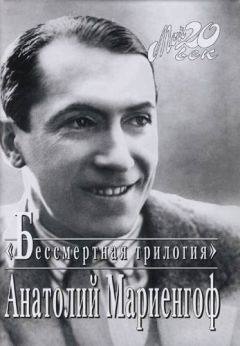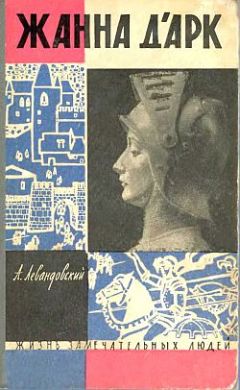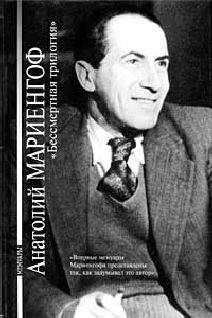Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
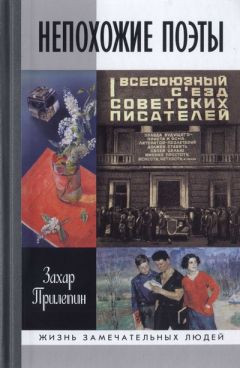
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Дыни размером с бельевую корзину. Жёлтые цветы под окнами.
Луговской пьёт совершенно беспощадным образом.
Семью спасает сестра: художница по образованию, она нанялась в местный Дворец пионеров и делает эскизы к пьесе по Валентину Катаеву.
Луговской не желает где-то работать и хоть что-то писать: до апреля 1942-го, за полгода, не будет ни строки.
У матери обнаружен рак, она кричит часами, не прекращая, днём и ночью.
Когда сын пропьёт все досягаемые семейные запасы, он повадится ходить на Алайский рынок — поначалу там ему подносили знакомые и незнакомые: красивый москвич, орден… Но вскоре перестали.
Не беда — он начнёт собирать милостыню и читать стихи за стакан водки.
«Песню о ветре» не желаете, господин хороший? Или про «поросят в витринах»? Про Перекоп, товарищ? Про басмачей не хотите, гражданочка? Про комиссара Усова или полковника Соколова? Про большевиков пустыни и весны? Про восстание в Пешаваре? Налетайте, узкоглазые.
Как ты там писал, поэт, десять лет назад? «Я солдат — / килограммы костей, крови и мышц…»
Теперь бей себя своими собственными стихами по лицу, жри черновики, занюхивай ими.
Как ты обещал: «Где бы ты ни был, — / к востоку ли, к западу, / К северу, к югу, — / эй, друг, помни! — / Цветом, лучом, / ветром и запахом / В теле твоём заполню я / Пулевую дыру».
И теперь ни ветра, ни луча, один запах!
Тем не менее узбеки называют его «урус дервиш». Они его отчего-то уважают.
Может быть, в их понимании этот «урус» ведёт себя разумно.
А ведёт себя он вот так, цитируем поэму «Алайский рынок»:
Мне, собственно, здесь ничего не нужно,
Мне это место так же ненавистно,
Как всякое другое место в мире,
И даже есть хорошая приятность
От голосов и выкриков базарных,
От беготни и толкотни унылой…
Здесь столько горя, что оно ничтожно,
Здесь столько масла, что оно всесильно.
Молочнолицый, толстобрюхий мальчик
Спокойно умирает на виду.
Идут верблюды с тощими горбами,
Стрекочут белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О, сонный разворот ташкентских дней!..
………………………………
Я пьян с утра, а может быть, и раньше…
Пошли дожди, и очень равнодушно
Сырая глина со стены сползает.
Во мне, как танцовщица, пляшет злоба…
………………………
Подайте, ради Бога.
Мимо проводят козу.
Мимо проносят арбуз.
Мимо проходит женщина с корзиной. В корзине лежит маленький ребёнок и орёт. Женщина говорит: «Ну, Андрюша, ну, тише…»
Потный урус дервиш с плывущей улыбкой тянет ко всем проходящим пустую кепку. Ему весело. Ему невыносимо.
Все обсуждают чудовищные сводки: немцы берут город за городом. Ходят слухи о том, что Узбекистан может стать англо-американской колонией. Не погонят ли узбеки русских? — боятся эвакуированные. Один дервиш ничего не боится.
Сестра Таня записывает про брата: «Он не знает никаких полумер в своём эгоизме».
Никаких. Полумер.
Елена Сергеевна, которую любил и называл Инфантой, живёт по-над самой головою? А ничего.
Всеволод Иванов записывает в дневнике, что у Луговского попутно роман с местной врачихой, «седенькая и картавая» — определяет её Иванов. «Он явился, выпил две рюмки и заснул, как всегда, сидя. Она увела его к себе».
Сколько в этих ёмких словах — «он явился» — содержится скепсиса, переходящего в брезгливость. «Увела его к себе», тьфу. Как собаку.
Другой раз Иванов описывает, как эвакуированные литераторы сидят в столовой и «Луговской пришёл якобы с тем, что хочет позвонить по телефону… сел на подоконник. Погодин… не пригласил к столу Луговского, а один пил водку. Луговской, — внутренне, наверное, — бросил “Хамы!”, — и ушёл боком».
Так ведут себя алкоголики, которых все сторонятся. Он и стал алкоголиком.
Соседи Луговских пишут в дневнике: «Луговской — старая, пьяная развалина. Пьёт, валяется в канавах, про него говорят: “Луговской пошёл в арык”».
…Старая развалина, да? Ха! Ему сорок один год! Полтора года назад он мог стрелять из винтовки в цель с одной вытянутой руки, не пьянеть с литра водки, сесть в седло — и всю ночь нестись к чёрту на кулички.
Одна Ахматова на разговоры о рехнувшемся Луговском пожимает царственными плечами: он поэт, он может, как угодно, поэту — простительно.
Луговской заходит к ней и, словно дотаптывая себя, читает Анне Андреевне вслух переводы Пушкина из Горация: «…когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил» — там дальше идут строки: «Ты помнишь час ужасной битвы, / Когда я, трепетный квирит, / Бежал, нечестно бросив щит, / Творя обеты и молитвы».
Ахматова слушает без улыбки, без осуждения — спокойно, не унижая гостя ни утешением, ни каким иным словом.
Но таких, как Ахматова, — нет, или почти нет.
Его презирают. Распускают слухи, что он бежал с места боёв. Иные в глаза называют «дезертиром». Он ничего не отвечает.
Удивительно, но полные нежности, доброжелательные письма Луговскому шлют друзья, оба воевавшие, оба находящиеся на фронтах или у самой кромки войны, под ежедневными бомбёжками — и оттого почему-то гораздо более снисходительные, чем тыловые трепачи и демагоги, — Фадеев и Тихонов. Саша и Коля, ближайшие и родные.
«Милый старик! — пишет Сашка, бывший дальневосточный красноармейский партизан. — Ты должен сделать всё, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть… Для этого ты должен ликвидировать абсолютно всё, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания, — женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые)».
«Я о тебе много расспрашивал в Москве, — пишет Николай, бывший гусар, — узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну, ничего, старина, пройдёт и это страшное время, не будет же война длиться сто лет — кончится раньше — и мы с тобой поедем в какую-нибудь солнечную долину и тряхнём кахетинское под развесистой чинарой».
Литератор Наталья Громова, написавшая несколько замечательных книг о ташкентской эвакуации, очень точно подметила, что Тихонов приезжал из Ленинграда, где жил, в Москву за Сталинской премией — ни словом об этом не обмолвившись в письме. Удивительная, аристократическая тактичность!
Сильные люди — всегда снисходительнее. Слухи распускают — слабые.
Впрочем, есть у Луговского один ученик, который в 1938 году называл его своим «крёстным отцом», — Константин Симонов.
Бесстрашный военкор, кочующий с одного участка фронта на другой, демонстрирующий паранормальную храбрость и выдержку, он оказывается в Ташкенте.
СИМОНОВ И ЛОПАТИН
В повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны» (ставшей частью романа «Так называемая личная жизнь») описан Луговской. Или человек, похожий на Луговского до степени полного смешения.
В действительности, кажется, всё было острее, чем в романе, начатом за год до смерти Луговского — в 1956-м, а законченном в 1978 году.
Согласно сюжету «Двадцати дней без войны», Луговской встречает военкора Лопатина уже на вокзале. На самом деле Симонов сначала отказался встречаться с Луговским. Тот напился пьян и пошёл к Ахматовой жаловаться ей на своего любимого ученика.
Но главный герой симоновского сочинения, строго говоря, не сам Симонов, о чём автор уведомляет в предисловии к своей книге.
Симонов как бы прячется за Лопатина, сделав его старше и старательно описав его непохожим на себя — более добрым, более грузным и, главное, куда менее амбициозным.
В первой части этого, состоящего из трёх повестей, романа есть забавный момент, когда Лопатин ревнует жену-актрису к молодому и очень успешному драматургу, чья фамилия не называется. Он красивый, с усиками, — сетует Лопатин, — нечего тебе с ним встречаться, влюбишься ещё.
Вот этот, с усиками, которого женщинам лучше избегать, и есть молодой Симонов, над которым стареющий Симонов немного иронизирует, но вместе с тем и слегка любуется им.
Однако Лопатину он передоверяет и свои маршруты поездок по фронтам, и свои любовные переживания — Симонов, к слову, сам был женат на актрисе, — и свои мысли, и всё-таки состоявшуюся встречу с Луговским тоже.
«Всё было неузнаваемо в этом человеке, — таким видит герой повести Симонова своего бывшего друга, эвакуированного в Ташкент поэта по имени Вячеслав. — И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он сейчас, как слепой, тыкался в лицо Лопатину».
Руки у поэта — тоже «не прежние, неуверенно подрагивающие». И, спустя страницу, опять: «исхудалые, подрагивающие».
Порой поэт Вячеслав старается говорить с вызовом, но и «в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.