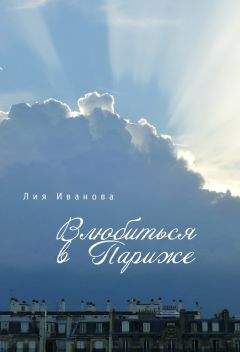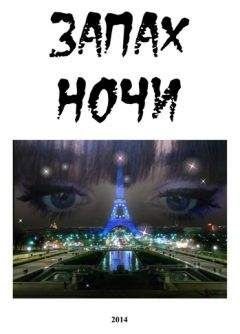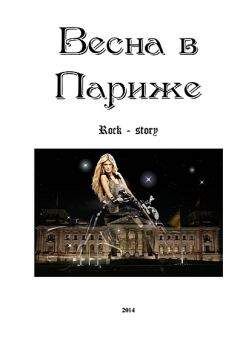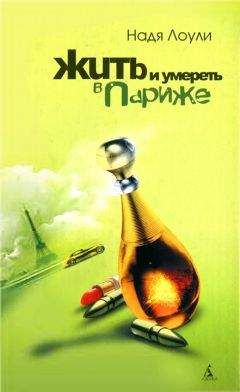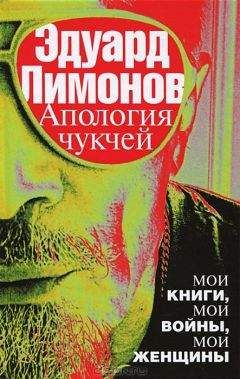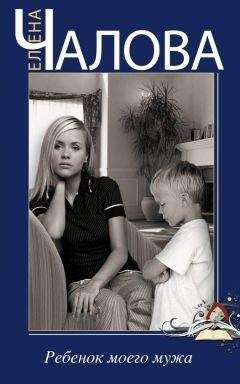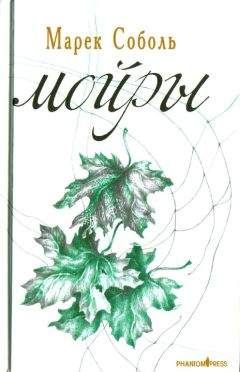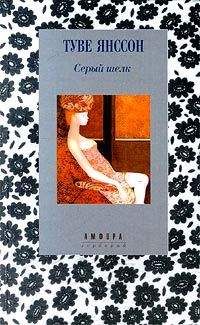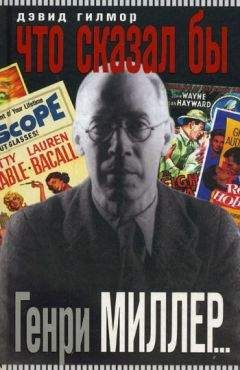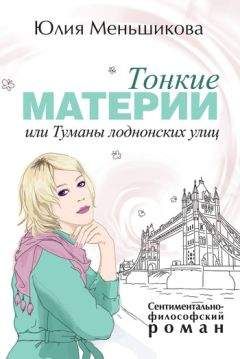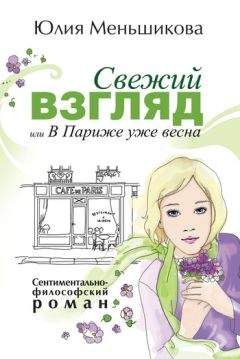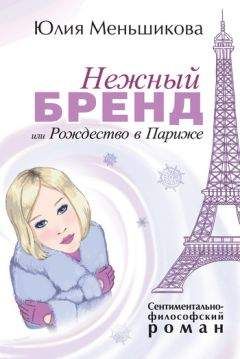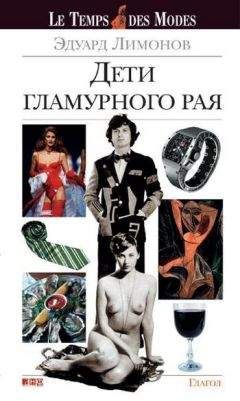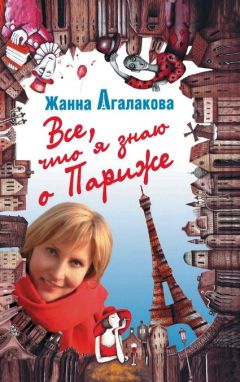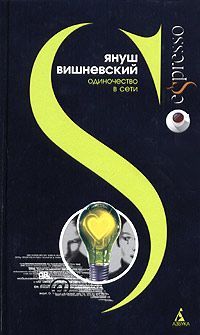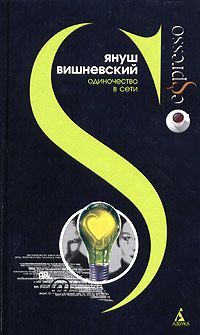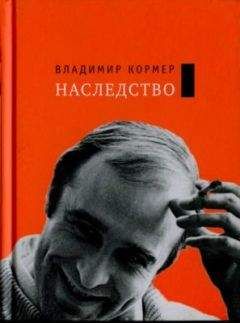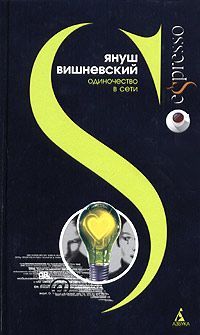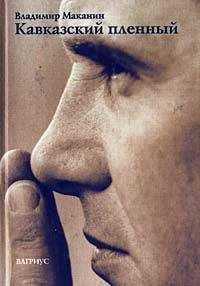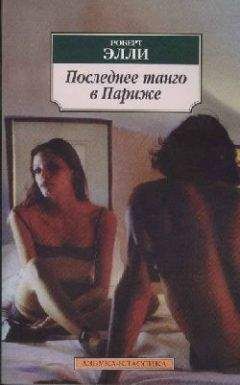Ирма Кудрова - Пленный лев
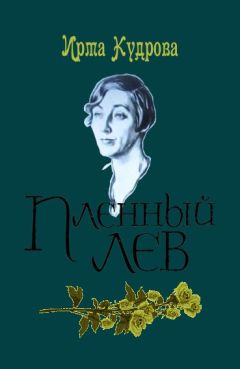
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пленный лев"
Описание и краткое содержание "Пленный лев" читать бесплатно онлайн.
О жизни М. Цветаевой в Париже.
Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура «Дома у Старого Пимена», то есть к декабрю 1933 года: «...Я слишком долго, страстно и подробно работала над Старым Пименом, чтобы идти на какие бы то пи было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилий (усердия) не фраза, а слово, и даже часто — слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите.
Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, приписать по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет — в посмертное, т. о. в наследство тому же Муру (он будет БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ), — итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции, в лице ее редакторов не понадобившегося, хотя все время и плачется, что нет хорошей прозы и стихов.
За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне — 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, — каким-то гастролером...
Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету; зная своей работы цену — цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, — и если я нынче, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о существе моей работы и о дальнейших ее возможностях.
Вот мой ответ по существу и раз-навсегда».
«Объелась и опилась горечью...» Она могла бы это повторить и через год, и через три...
Сколько и где именно зарабатывает в середине 30-х годов Сергей Эфрон — сказать с полной достоверностью трудно. Ясно только, что заработок его не слишком-то облегчал жизнь семьи, «кормильцем» его не назовешь. И Цветаевой постоянно приходится, в самом прямом смысле, — попрошайничать. В «русском Париже» регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то «подписные обеды», то благотворительные балы, даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе, писать прошения и заявления. А между тем отношения с дамами-патронессами, стоявшими на распределительных постах благотворительности, у Марины Ивановны — самые скверные, неприязненные. Накопляющаяся год от году душевная усталость заставляет ее подозревать этих дам в чувствах даже более активных, чем простая неприязнь, — и потому временами случается, что взрыв ее очередного негодования выстреливает вовсе не по адресу...
Она устала.
Послушаем голос Дон-Амипадо — поэта и прозаика, все более решительно уходившего в 30-е годы от веселого юмора в самый горчайший сарказм. Это ему, несколько лет спустя, Цветаева напишет замечательное письмо, чтобы сказать, как радуется его таланту, как высоко его оценивает, — может быть, гораздо больше и серьезное даже, чем сам его обладатель. Итак, вот всего абзац «прозаического» Дон-Аминадо, смеющегося Дон-Аминадо тридцатых годов: «Страшно подумать, из чего состоит наша вечная борьба за существование, трепка нервов и биография. Какие влажные, липкие и полупреступные руки пожимаем мы с утра до вечера, и с каким лицемерным усердием! В какие равнодушные и жестокие глаза глядим без веры и без надежды. И с какой нечеловеческой усталостью возвращаемся мы домой, в это грустное царство недействующих выключателей, продавленных диванов, расстроенных нервов, провалившихся на экзаменах детей и сбежавших алюминиевых чайников, которым тоже ведь надоело это вечное клокотание и кипячение без смысла и цели!» Тому же автору принадлежит афоризм: «Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, снятая еще при жизни».
В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации и хлещущие, как пощечина, формулировки. Впрочем, ведь не только в письмах — и в стихах:
Квиты! Вами я объедена
Мною живописаны.
Вас положат на обеденный,
А меня — на письменный...
...В головах — свечами смертными —
Спаржа толстоногая.
Полосатая, десертная
Скатерть вам — дорогою!..
...А чтоб скатертью не тратиться —
В яму, место низкое:
Вытряхнут вас всех со скатерти:
С крошками, с огрызками.
Каплуном-то вместо голубя —
— Порх — душа — при вскрытии.
А меня положат — голую,
Два крыла прикрытием.
Она устала от унижений, от вынужденных отношений с людьми, с которыми не хочется говорить даже о погоде, устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее. Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее всегда и везде — да и как может она нравиться тем, кто твердо, с рождения, знает, как надо и как не надо? Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за «чрезмерную» любовь к сыну, за «слишком личную» тональность прозы, за мужа с его открыто «просоветскими» взглядами. При всей ее независимости она устала от этого постоянно сопровождающего ее жужжания настолько, что в одном из писем этой осени она просит Тескову издали рассудить ее с обвинителями в одном из вспыхнувших конфликтов. А это уже совсем на нее по похоже. Она нуждается в поддержке, опоре, ободрении, — так неодолимо подступает к ней временами последнее отчаяние...
6
Тяжкий упадок духа, чувство депрессии переживает в середине тридцатых годов не только Цветаева. Ходасевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившейся в творчестве даже, совсем молодых поэтов-эмигрантов; философ Федотов — о «чувстве, близком к удушению», испытываемом посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине; Ремизов признается, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова (в его интервью Камерону): «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя...» Бунин отказывается от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он живет много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии делало такую покупку вполне возможной. Его удерживает единственная мысль: неужели так и не будет — России? Неужели здесь обосновываться навсегда?..
Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля: «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустной сентенцией: «Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти... Наиболее могучие человеческие связи и узы — узы родины, семьи, быта — разорваны или ослабели до полного почти исчезновения...»
Десятого октября в Марселе совершено очередное политическое убийство, даже двойное: убиты французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства неясны, убийцы не найдены, но среди русских снова ползет назойливый слушок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы сербский король покровительствовал русским эмигрантам, а Барту выступал за сближение Франции и Советской России. Так или иначе, призрак Горгулова оживает вновь, как и призрак овцы, заведомо виноватой в мутности ручья...
Цветаева почти не читала газет, вряд ли отличала Даладье от Лаваля, тем более что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине 30-х годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозное направление происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии; фашистские мятежи, прокатившиеся в 34 году чуть ли не по всем странам европейского континента; коричневорубашечники в Германии, чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции — все это заставляло почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире.
Русское зарубежье добавляло свой пай в котел человеконенавистничества: в апреле того же 34-го было подписано соглашение о создании «Всероссийской фашистской организации», со штабом в Харбине. Этого факта Марина Ивановна скорее всего и не знала. Зато ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в речах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах (и статьях), которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься, ибо слова «Русь», «Россия», «русский мессианизм», звучавшие чуть не в каждом абзаце, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле. В облатке, сильно подслащенной «патриотизмом», неискушенный читатель или слушатель раз за разом готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма. Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждение» или «Завтра», рядом со статьями, несшими в себе этот до поры до времени упрятанный нацистский заряд, публиковались и безусловно чистые люди русского зарубежья, такие, как мать Мария, Бердяев или Бунаков-Фондаминский. Идеологи «Утверждения» горячо приветствовали тенденции «национал-большевизма», оформлявшиеся, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали «национал-максималистами». Существовали еще «младороссы» («молодые люди, не доросшие до России», — саркастически шутил Дон-Аминадо).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пленный лев"
Книги похожие на "Пленный лев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирма Кудрова - Пленный лев"
Отзывы читателей о книге "Пленный лев", комментарии и мнения людей о произведении.