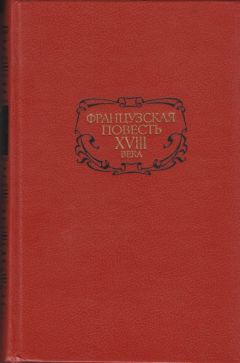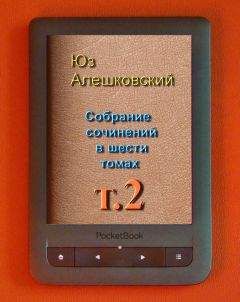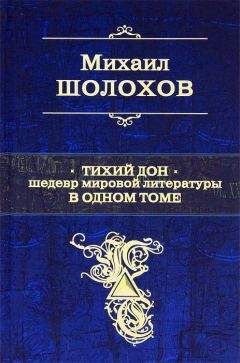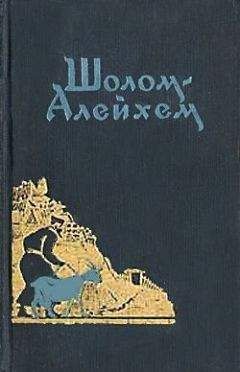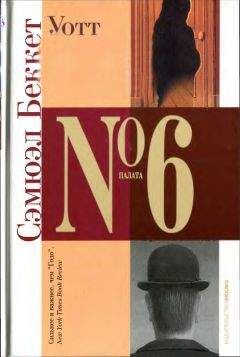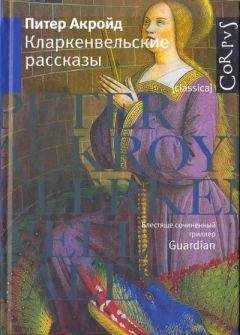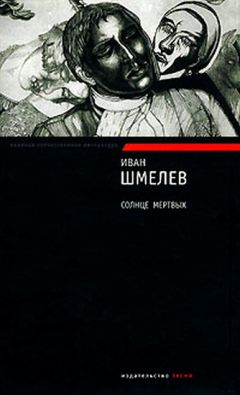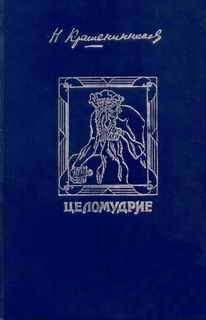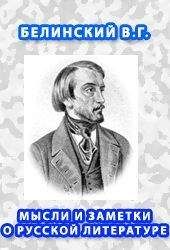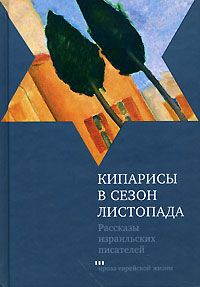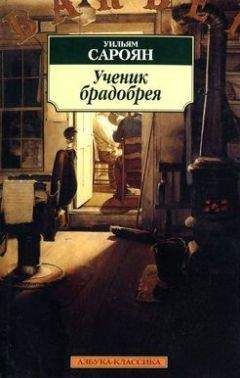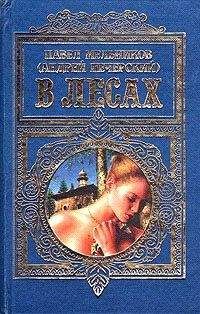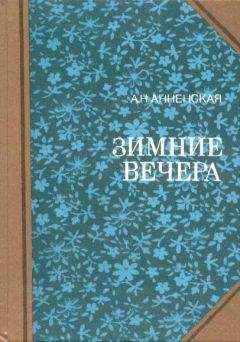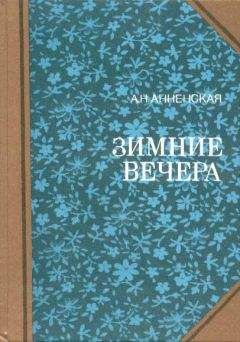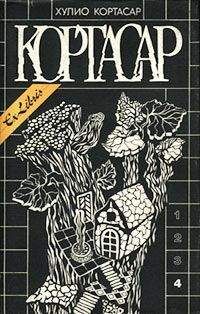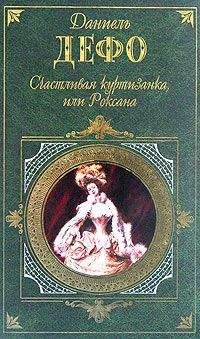Геннадий Красухин - Мои литературные святцы
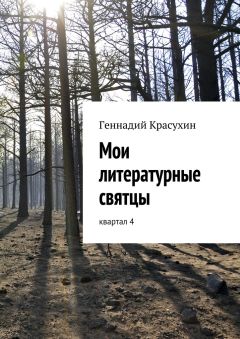
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Мои литературные святцы"
Описание и краткое содержание "Мои литературные святцы" читать бесплатно онлайн.
Автор этой книги потому и обратился к форме литературного календаря, что практически всю жизнь работал в литературе: больше 40 лет в печатных изданиях, четверть века преподавал на вузовской кафедре русской литературы. Разумеется, это сказалось на содержании книги, которая, сохраняя биографические данные её героев, подчас обрисовывает их в свете приглядных или неприглядных жизненных эпизодов. Тем более это нетрудно было сделать автору, что со многими литераторами он был знаком.
Проанализировал основные жанры сказочного и героико-эпического фольклора, начиная с их наиболее ранних форм, сохранённых в некоторых бесписьменных культурах. В русле такой методологии исследовал «Старшую Эдду», что позволило выявить устные основы составляющих её текстов.
Его книга «Введение в историческую поэтику эпоса и романа» содержит описание закономерностей развития эпических жанров от первобытных истоков до литературы Нового времени.
Скончался 16 декабря 2005 года.
В заключение – фрагмент небольшого этюда о Мелетинском Вячеслава Всеволодовича Иванова:
Из многих картин, всплывающих в памяти, когда я думаю о Елеазаре Моисеевиче, я всё время мысленно возвращаюсь к одной – к самому началу нашего знакомства, когда мы ещё не знали, что будем долго дружить и вместе удастся работать.
Как-то лет сорок пять назад Владимир Николаевич Топоров передал мне, что наш общий знакомый Георгий Александрович Лесскис и его друг Елеазар Моисеевич хотели бы встретиться с нами двумя, чтобы обсудить возможности строгого – структурного и математического – подхода к литературе. В те годы это выглядело примерно как сейчас планы выгодной добычи полезных ископаемых на Луне. В литературоведении правили чиновники сталинского пошиба и бандиты – душители мысли, постепенно грань между этими двумя категориями злодеев стиралась. Но ненависть тех и других ко всему новому в науке была одинаково свирепой.
В языкознании уже удалось добиться изменения ситуации. Устраивались увлекательные обсуждения, где каждый из нас делился результатами интенсивно шедших тогда работ по машинному переводу, структурной и математической лингвистике. Мы условились с Топоровым, что после одного из таких заседаний пойдём вместе на встречу с ожидавшими нас друзьями-литературоведами <…>
При первых встречах с Елеазаром Моисеевичем я думал о том, как сложилась его судьба, подарившая ему ранние испытания на фронте, выход из окружения, заключение, инсценировку расстрела, тбилисскую тюрьму, второй арест, лагерь и все последующие невзгоды более изысканного академического свойства. А он вопреки всему был одержим жаждой внести ясность в перепутанность нашего мира. Ещё раз процитирую его воспоминания: «С раннего детства моё сознание тянулось к представлениям об осмысленной связи целого, о необходимости гармонии как чего-то фундаментально-укоренённого, а не как скользнувшего на мгновение луча солнца по цветку. Всякие конфликты, разлады, бессмыслица даже в частных случаях меня исключительно огорчали. Не зная ещё этих слов, я всегда был за Космос против Хаоса, но не настолько был в себе уверен, чтобы не трепетать перед Хаосом. Всё, что мне пришлось повидать во время войны, должно было убедить меня в слабости и иллюзорности Космоса и в силе Хаоса, лёгкости его возникновения, широкого масштаба его распространения, безудержности его проникновения в любую сферу. На более позднем этапе проблема Хаоса / Космоса и их соотношения в модели мира стала центральным пунктом моих философских размышлений и научных работ». Об этом и шла речь в первой же нашей беседе. Елеазар Моисеевич не только был уже в это время увлечён Леви-Строссом и его рациональным истолкованием мифологии. Он недаром ещё в лагере штудировал квантовую механику. Как мы все тогда, открытия теории информации он понимал как способ понять её соотношение с энтропией как мерой беспорядка. Лесскис, прошедший сходную тюремную школу, сходен был с Мелетинским и в том, что сохранил веру в силу разума и необходимость введения его в сферу науки о литературе. Мы говорили в тот день допоздна, за полночь стали вырисовываться контуры того, что придёт потом – с появлением Лотмана и московско-тартуской школы, с расцветом нашей семиотики, а дальше и со всеми теми начинаниями, которые стали возможны в новое время и в которых Мелетинский деятельно участвовал. Но мне навсегда запомнилось его умение почувствовать и передать другим силу своего тяготения к Космосу (не меньше, чем отвращение к Хаосу, в котором он видел своего личного врага).
***Елена Александровна Скрябина. Её фамилия не девичья – от мужа, который композитору Скрябину доводился двоюродным братом. Родной брат Елены Павел погиб в белой армии в Крыму. В 1936-м в Омске расстреляли ещё одного её брата Георгия.
С началом войны муж ушёл на фронт, прошёл всю войну и умер в 1946 году. А Елена Александровна с матерью и двумя детьми, пережив полгода блокады Ленинграда, в феврале 1942 года эвакуируется в Пятигорск. По дороге умирает мать. В Пятигорск вошли немецкие войска, и в 1943 году Скрябина с детьми отправлены в трудовой лагерь в Бендорфе. После войны это была французская зона оккупации. В 1950 году Скрябина с младшим сыном уезжают в США. Старший остался в Германии, потом работал в Иельском университете США профессором фармакологии.
Она год работала посудомойкой, после преподавала русский язык в Сиракузском университете.
В 1963 году её младший сын погиб во время свадебного путешествия. Она села за воспоминания. Её книга «В блокаде» (1964) переведена на английский и на немецкий. За ней последовали ещё 3 книги: «Годы скитаний» (1975), «Пять встреч» (1975) и «Это было в России» (1980).
Скончалась 22 октября 1999 года (родилась 13 февраля 1906-го).
Закончу её цитатой из книги «Годы скитаний», где эпизод, описанный ею, напоминает её жизнь в целом. Запись от четверга, 25 сентября 1941 года:
Сегодня забежала взволнованная Ирина и сообщила печальное известие. Марина Толбузина, моя приятельница с раннего детства, погибла. Оказывается, Марина, с группой сослуживцев и со своей неразлучной домработницей Тоней, была отправлена на рытьё окопов в окрестности Ленинграда. Проработав определённый срок, вся группа возвращалась по шоссе, когда с ними поравнялась красноармейская машина. Марина, изнемогавшая от усталости, попросила подвезти её и Тоню. Шофёр согласился. Машина обогнала шедшую группу, но не успела ещё скрыться за поворотом, как на глазах у всех взлетела в воздух. Всё это сопровождалось грохотом и дымом, заслонившим автомобиль. Когда окопники поравнялись с местом происшествия, то не нашли и следов пассажиров. Задерживаться было невозможно, так как начинался сильный обстрел этого участка шоссе. Вот то, что нам пришлось услышать. Погоревали о Марине – красивой, молодой, полной жизни женщине, так безвременно погибшей… и опять вернулись к нашим повседневным заботам о спасении собственной жизни.
Примечание Е. Скрябиной к тексту ее книги «Годы скитаний»:
«Впоследствии оказалось, что Марина, хотя и вылетела из машины, наскочившей, по-видимому, на мину, но не погибла, как все предполагали. Каким-то образом она очутилась в придорожной канаве, где и пролежала без сознания до тех пор, пока один из немцев не стал вытирать кровь и грязь с её разбитого лица. Приняв немца за милиционера, она что-то спросила его по-русски. Каково же было её изумление, когда она услышала немецкую речь! После долгих скитаний и всевозможных передряг, Марина в 1953 г. попала в Америку, где и живёт теперь».
23 октября
Стихи Николая Авдеевича Оцупа, родившегося 23 октября 1894 года, порой были безжалостно реалистичны:
Всё, что жизнь трудолюбиво копит,
Всё, что нам без устали дарит, —
Без остатка вечное растопит
И в себе до капли растворит
Как для солнца в ледяной сосульке
Форму ей дающий холод скуп,
Так для вечности младенец в люльке,
В сущности, уже старик и труп.
Оцуп, заложив золотую медаль, которую получил, окончив Царскосельскую Николаевскую гимназию, уехал учиться в Париж, где слушал лекции философа Бергсона. Стихи начал писать под влиянием Бергсона и Гумилёва, с которым познакомился позже, вернувшись в Россию.
Вместе с Гумилёвым и Лозинским организовал «Цех поэтов», который выпустил первую книжку Оцупа «Град».
Занимался переводами в издательстве «Всемирная литература. Переводил Р. Саути, Д. Байрона и С. Малларме.
Но после расстрела Гумилёва покинул Россию. В 1922 году в Германии содействовал переизданию трёх альманахов «Цеха поэтов» и выпуску четвёртого. Потом перебрался в Париж, где выпустил второй стихотворный сборник «В дыму» (1926).
В 1930-м организовал журнал «Числа», где печатал многих молодых эмигрантов – поэтов, писателей, искусствоведов, философов. В 1939-м выпустил роман «Беатриче в аду» – о любви богемного художника к начинающей актрисе.
В начале Второй мировой войны записался добровольцем во французскую армию. Попал в плен к итальянцам, из которого через полтора года бежал. Вновь был пленён и снова бежал. Закончил войну в рядах итальянского Сопротивления.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мои литературные святцы"
Книги похожие на "Мои литературные святцы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Геннадий Красухин - Мои литературные святцы"
Отзывы читателей о книге "Мои литературные святцы", комментарии и мнения людей о произведении.