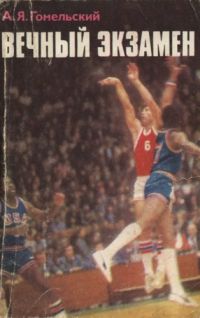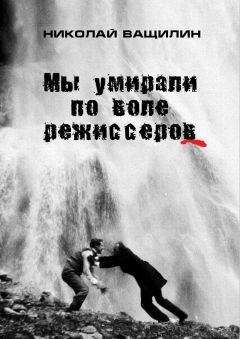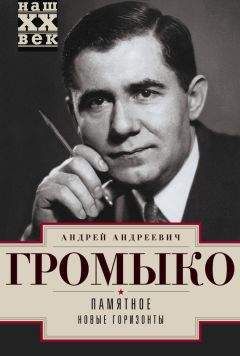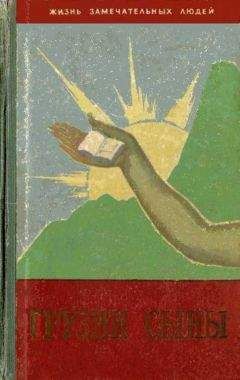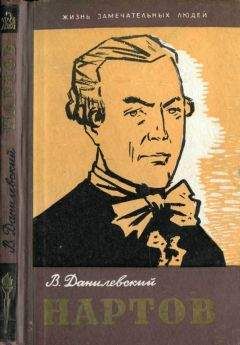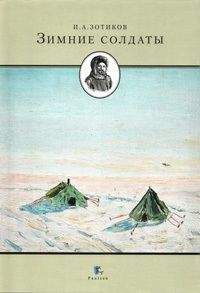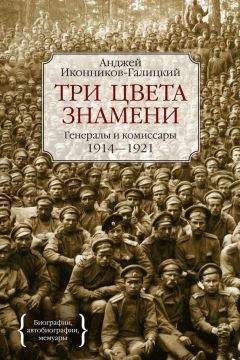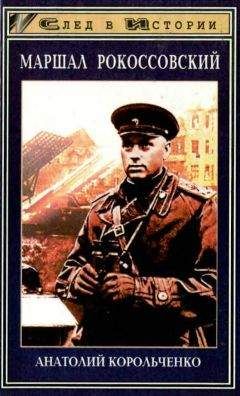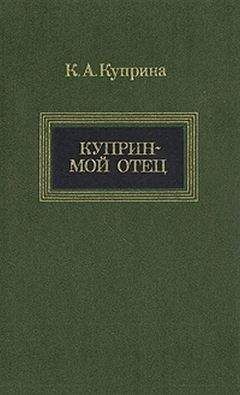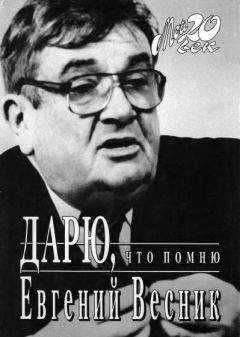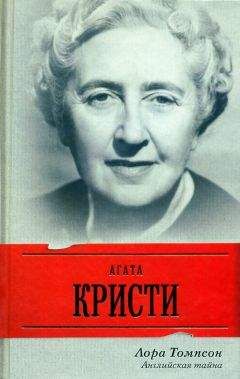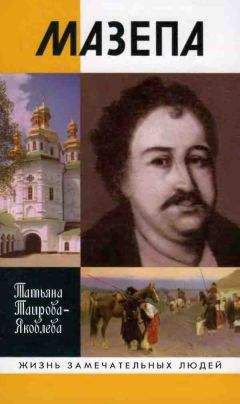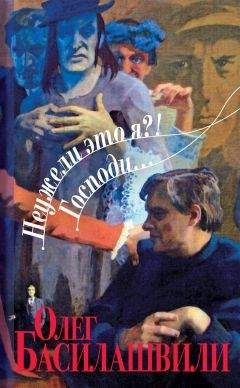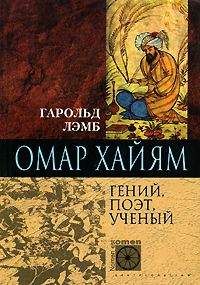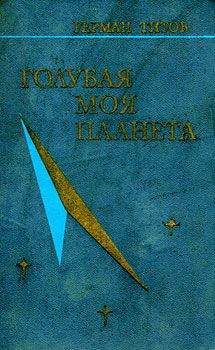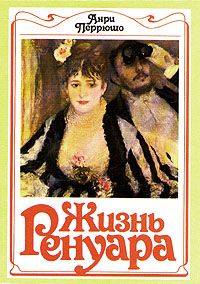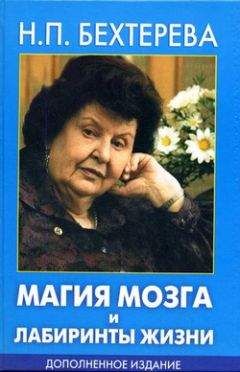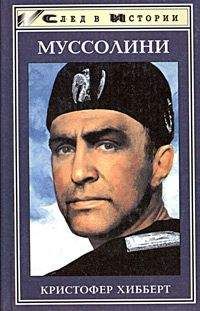AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ
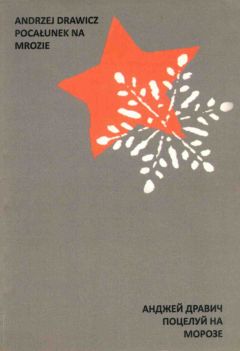
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"
Описание и краткое содержание "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ" читать бесплатно онлайн.
В книге "Поцелуй на морозе" Анджей Дравич воссоздает атмосферу культурной жизни СССР 1960-80 гг., в увлекательной форме рассказывает о своих друзьях, многие из которых стали легендами двадцатого века
Я спешно старался уловить виленский genius loci (дух места). Не могу отважиться на описание, требующее более основательных знаний, но у меня и теперь перед глазами приземистая, могучая, средневековая кривизна светлых стен городского центра, ведущих плавными поворотами в резких светотенях зимних ночей. Это ветвь ренессанса и барокко неслыханной красоты, неописуемой прелести, укорененная в многоэтничной местной земле – восточная и западная одновременно. Я восхищался, как и каждый, святой Анной с ее стреловидной вертикалью и изяществом торунского пряника. Рядом чернел замкнутый массив Бернардинского монастыря. Когда я спросил какую-то старушку по-русски, можно ли туда попасть, то услышал: «Мусичь ня можна» c таким восхитительным распевом гласных, что тут же (вопреки всякой логике) двинулся в обход и через какую-то приоткрытую калитку проник внутрь. Меньше мне повезло с костёлом Сердца Иисуса, к которому я свернул, спускаясь к городу со стороны кладбища в Россе: меня остановили при входе и вежливо выпроводили, так как храм оказался опутанной колючей проволокой по самые макушки сторожевых вышек колонией или тюрьмой для несовершеннолетних преступников. Но общее впечатление от поисков польских следов было неплохое. Правда, польская историческая субстанция здесь подавалась, как правило, как пралитовская, но была спасаема и оберегаема. Это выглядело гораздо лучше и достойнее, чем варварское уничтожение наследия польского прошлого во Львове.
Братья-литовцы кормили меня и рассказами о своей недавней истории. Я слышал о массовых депортациях перед самой войной с Германией в 1941 году и о том, что – логично – немцев тогда встречали как освободителей; о самоуправлении, которое в то время было Литве дано, а затем отобрано, и о жестоких репрессиях, начавшихся с 1944 года, в результате которых родину покинул, как говорят, каждый десятый житель; о предшествующем бегстве от возвращающейся Советской Армии десятков тысяч представителей интеллигенции; о десятилетней гражданской войне и «лесных братьях», которых чуть коснулся Витаутас Жалакявичюс в фильме «Никто не хотел умирать». Поскольку я и так находился в Литве нелегально, меня посадили в автомашину и отвезли в Ковно (Каунас), официально закрытый для иностранцев. Я увидел бывшую «столицу в силу необходимости», лишенную виленского блеска, заслуженный и достойный мещанский город, нечто среднее между Ченстоховом и Познанью. Но и здесь реставрировали их и наше прошлое: мне с гордостью показывали сверкающий чистотой, обновленный домик пани Ковальской, куда пан Адам Мицкевич любил наведываться после уроков, которые давал в соседней гимназии. Тут же рядом возвышалась внушительная, двукрылая, дворцовая постройка с очень оригинальным двойным предназначением: в одном крыле казармы, в другом – духовная семинария, на одной башне крест, на другой красная звезда, а сзади расстилалась долина Немана, через которую двигался на империю в 1812 году Наполеон (въезжая, он, что было дурным предзнаменованием, упал с лошади). Так переплетались и накладывались друг на друга разные слои и фрагменты истории. Дабы я сильнее ощутил их сложную взаимосвязь и совместное давление, на обратном пути мне рассказали о хитростях, к которым прибегал Снечкус, многолетний партийный руководитель Литвы, чтобы спасти отечественное сельское хозяйство от кукурузной мании Хрущева, а также о том, что единственную в Союзе настоящую автостраду здесь соорудили при том же Снечкусе – притом по секрету от Москвы, под видом ремонта давнего шоссе.
Прежде всего стоило, однако, поехать в Ковно, чтобы убедиться: столицей этот город мог стать только вследствие утраты Вильно, на какое-то время. Так, кружным путем, я приближался к эпицентру литовских беспокойств. Меня продолжали доучивать истории. «Видите ли, – объяснял мне кто-то, – наихудший момент мы пережили в тридцать девятом. Немцы уже отняли у нас Клайпеду, а Вильно ещё было у вас. Мы задыхались. Вы понимаете?»
В конце моего пребывания здесь один художник устроил в мою честь party в обычном европейском стиле. Гости тихо переговаривались по углам, на стенах висели картины, хозяин был приветлив, но холоден, атмосфера как-то не налаживалась – я не знал, почему. Но вот хозяин спросил – чуть громче, чем обычно, и все тут же умолкли, так что слова прозвучали очень отчетливо:
– А что вы, поляк, думаете о будущем Вильно? Если бы нынешняя расстановка сил изменилась?
Тишина была абсолютная. Ситуация показалась мне довольно забавной. Да что я, в конце концов, – генерал Желиговский в 1920 году?[20]Но лица, окружавшие меня, были серьезны. Все ждали. Тогда я сказал, что не представляю здесь никого, кроме себя и группы людей, мнение которых мне известно. Эти люди считают, что Вильно, как бы дорого оно ни было польским сердцам, должно при любой расстановке сил принадлежать Литве, а мы лишь хотели бы иметь сюда свободный доступ и знать, что следы польского присутствия в нем уважаемы и оберегаемы.
В то же мгновение словно прорвало плотину: хозяин, с виду флегматичный северный медведь, бросился ко мне с объятиями. Мы остались потом хорошими друзьями, и при всех обстоятельствах – на щите и со щитом – я получал от него доказательства верной, литовской памяти.
Каких-либо ветеранов-вильненцев мое заявление, возможно, заденет. Ведь в польском коллективном сознании эта проблема не выяснена до конца (хотя – покуда – остается только теоретической). Личные привязанности и обиды я понимаю, но остаюсь при своем: другого разумного, человечного, христианского решения не существует. Для нас это означает – одним прекрасным и важным городом больше, для них это – фундамент существования. Без Вильно нет настоящей Литвы. Пусть судьба пошлет нам мудрых политиков, которые в будущем, от имени некогда существовавшей Республики Обоих Народов закрепят это договором и создадут фундамент истинного согласия наших народов.
Я с надеждой думаю о моих братьях-литовцах, где бы они ни находились. Друг к другу нас ведет еще долгая дорога в гору, но кто-то дойдет.
А тогда моя последняя поездка близилась к концу.
Ныне ее отдельные этапы складываются в некое значащее целое. Я оказался среди теней сталинской элиты и постоял у могилы Пушкина. Растворялся в массе людей, притворяясь одним из них, и был слегка затронут проблемами советских межнациональных отношений. Отыскивал польские следы в Вильно и пообещал его литовцам (дьявол-насмешник шепчет: словно бы кто-то отдавал шведскому королю Стокгольм. Ну, может, не совсем так…).
А в тот раз неманская долина с ее высокими холмами открылась передо мной еще раз в Гродно. Мы проехали через мост. Вошли пограничники. Молодой младший офицер долго рассматривал мой паспорт. Как-то раз прежде при выезде из Союза обнаружили неточности в оформлении прописки и высадили меня в Бресте: правда, я успел добраться до какого-то окошечка, поставить печать и даже поймать свой поезд. На этот раз беспорядка в документах было куда больше. Стоял московский штемпель, потом перерыв, затем Таллин, а за ним еще перерыв. Паспорт он рассматривал долго, но потом возвратил, не говоря ни слова. Этот жест означал, что меня выпускают, а в какой-то степени и изгоняют.
Это соответствовало действительности: меня как бы ссылали, но в противоположном направлении – не вглубь России, а за ее пределы. Знаю, что это рискованное сравнение, и спешу заверить, что опять-таки никого не хочу обидеть, оскорбить чью-либо память. В конце концов, и у меня есть свои личные и семейные польско-русские и польско-советские счеты. И за тридцать шесть лет до этого, в феврале 1940 года я уже убегал отсюда в Генеральную Губернию через снега над Бугом, уцепившись за руку матери.
Это тогда. Но читатель этих записок, возможно, мог заметить, что позднее у меня были основания почувствовать себя связанным с этой страной. Самыми сильными – человеческими узами.
А кроме того, Россия – это моя специальность.
Я как раз завершаю сейчас двенадцатый год принудительной разлуки с нею.
КАК ОБСТОИТ ДЕЛО СЕЙЧАС
После 12-летнего перерыва, возникшего по причинам, абсолютно от меня не зависевшим, я вновь побывал на рубеже сентября-октября в Москве и немного вне ее.
Я ехал с нетерпением, но и с беспокойством. Дело в том, что вот уже какое-то время я стараюсь по возможности систематически представлять читателям газеты «Тыгодник Повшехны» свои размышления и комментарии, касающиеся перестройки (термин этот приобрел столь широкую популярность, что я не буду искать ему соответствий в польском и стану им пользоваться). Доселе это был анализ опосредованный – главным образом, чтением прессы, а потому я неизменно оговаривался, что лишь сопоставление с самой жизнью может удостоверить мои выводы. А значит, я проверял самого себя. У меня был на то месяц времени, который я провел интенсивно, зная, что по возвращении придется отчитываться. Кроме Москвы и ее окрестностей я посетил Вильно, где провел пару дней. На другие нерусские маршруты времени уже не хватило – правда, в столице нетрудно свидеться с многонациональной публикой. Я возобновил, насколько было возможно, старые знакомства, завязал новые. В силу естественного порядка вещей моё тамошнее окружение – это прежде всего творческая интеллигенция, но я старался в нем не замыкаться, беседовал еще с учителями, инженерами, учеными, врачами, пенсионерами, молодежью разных возрастных групп, служителями церкви. С рабочими контакты были фрагментарны, до крестьян я на этот раз не добрался – остались опять-таки лишь опосредованные свидетельства, правда, довольно обширные. Глаза и уши я держал открытыми, жил в массе, но как частное лицо, не выделяющееся явно своим иностранным обликом и способное – из-за твердого произношения – сойти за латыша; никаких признаков особого интереса к моей персоне я не заметил. То, что я видел, слышал, о чем подумал, попробую теперь изложить по возможности кратко, ибо материала довольно много. План у меня такой – начну с общих выводов и с характеристики общественно-политической ситуации, какой она представляется мне сейчас, поскольку ощущаю наибольшую читательскую заинтересованность в этом. Различная конкретика, наблюдения, жанровые сценки, всякого рода мемуарная лирика – всё это последует потом, как и сообщения, касающиеся литературы, театра и кино. Прошу запастись терпением – и на случай, если в чем-то повторюсь, возвращаясь к проблемам, затронутым прежде – такова, однако, техника сопоставлений и сравнений.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"
Книги похожие на "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"
Отзывы читателей о книге "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ", комментарии и мнения людей о произведении.