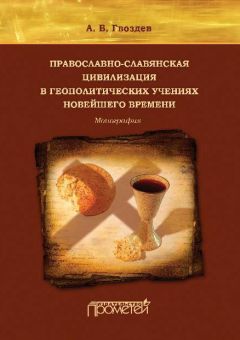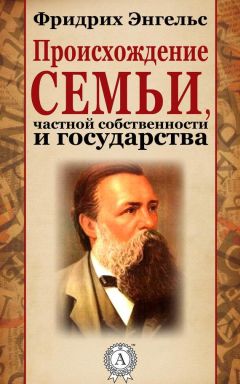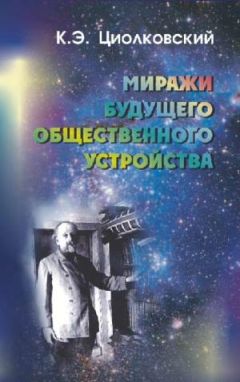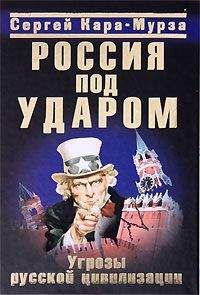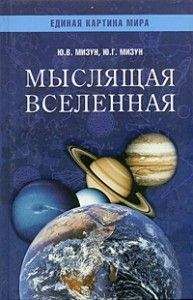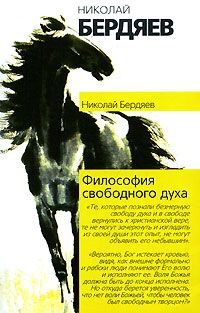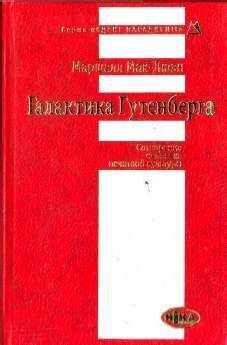Николай Клягин - Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)
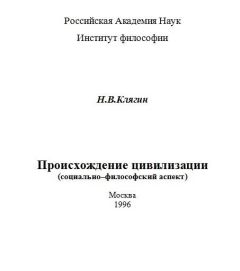
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)"
Описание и краткое содержание "Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)" читать бесплатно онлайн.
В монографии обосновывается представление о том, что между степенями сложности технологий, практикуемых социумами в истории, и демографическим состоянием этих социумов издавна существовало определенное количественное соответствие. Подобная демографо-технологическая зависимость позволяет объяснить закономерную корреляцию главнейших технологических революций с демографическими взрывами. Один из них — неолитический — послужил причиной возникновения производящего хозяйства. Дальнейшее демографическое развитие ближневосточных обществ по демографо–статистическим причинам создало основу для общественного разделения труда. Этот разрушительный для целостности социума процесс был нейтрализован путем заключения социума в матрицу городской цивилизации, понимаемой как предметная форма структуры общества разделенного труда. Предложены оригинальные объяснения генезиса ведущих форм духовной жизни ранней цивилизации.
Для научных работников, всех, интересующихся проблемами генезиса цивилизации и культуры.
Космогоническая линия Вода — Солнце — Земля — Небо в принципе отвечает статистической иерархии франко–кантабрийских сюжетов Лошадь (66,2%) — Бизон (51,8) — Горный козел (44,1%) как представителей классов первого, второго и третьего животного, которые можно отождествить с Солнцем (Лошадь), Землей (Бизон) и Небом (Горный козел и прочие представители третьего класса). Недостает лишь интерпретации первобытных вод.
В наскальном франко–кантабрийском искусстве, помимо животных, антропоморфов и знаков, во всех стилях (кроме первого, святилища которого разрушены) имелся еще ряд изобразительных мотивов. Это совокупности кривых черт (19,8%), скобления (11,3%), макароны и меандры (9,9%), наброски пальцами (7,2%), хаотические черты (6,3%), пучки черт и линий (2,3%). Из этих беспорядочных мотивов поддаются интерпретации макароны и меандры, представляющие собой серии волнистых (иногда прямых) линий, параллельных друг другу или нет. Архетипом этого мотива является мультиплицированный зигзаг. Единственный памятник, где мотив зигзага находит точное объяснение, — это топографическая карта из Межирича[134] (Канов, Черкассы, Украина, среднеднепровская культура, Вюрм IV Дриас I В, 15245±1080 14С), на которой параллельные зигзаги, покрывая изображение реки, символизировали воду. Представляется вполне вероятным, что панно макарон и меандров символизировали то же самое.
В такие панно нередко включались фигуры животных, как бы рождающиеся из них. Так, в Ла Бом-Латрон из панно меандров № 5 рождалась стандартная триада лошадь–бык–мамонт[135]. Аналогичные примеры встречаются и в других гротах (Ардалес, Гаргас I–1, Ле Труа–Фрер–1, Ле Пеш–Мерль–2, Эрберюа и др.). Таким же окружением могли служить панно скоблений и хаотичных черт (Ла Рок). Можно предположить, что подобные панно отражали мифологическую линию рождения сюжетов из водного хаоса (меандры) или неопределенного хаоса (хаотичные черты).
Таким образом, древнеегипетская мифологема первобытные воды — Солнце — Земля и Небо находит параллель во франко–кантабрийском изобразительном ряду панно меандров — первое — второе — третье животные и позволяет ставить вопрос: не являлась ли франко–кантабрийская мифология древнейшей космогонией? Подобная мифологическая идеология могла бы содержать архетипы характерных для древнего мира культов (водный, солярный, хтонический и астральный) и соответствующих им первоэлементов (вода, огонь, земля, воздух). Ранее мы показали (см. гл. II, 3), что франко-кантабрийское идеологическое наследие, вероятно, послужило одной из основ мегалитической культуры, начинающейся, правда, лишь в финальном мезолите. Мегалитическая культура примечательна своими астраномически выраженными лунно–солнечными культами, и поиски их западноевропейских предпосылок ведут в верхний палеолит. Франко–кантабрийская мифология, обладавшая, предположительно, космогонией и лунным календарем (см. далее) могла бы предоставить такие предпосылки.
Кроме бестиариев, франко–кантабрийское искусство располагало небольшим корпусом антропоморфных сюжетов, статистико–топографическое положение которых обычно связано с периферией основного панно или с глубокой периферией пещерного святилища в целом. Однако корпус антропоморфов не был однородным и распадался на две группы, различающиеся статистически, стилистически, композиционно, по тенденции к зооморфизации и отношению к системе знаков. Встречаются изображения мужчин (14%), неопределенных антропоморфов (13,5%) и женщин (9,5%), причем неопределенные антропоморфы иконографически и статистически чужды женским изображениям; их можно рассматривать как крайнюю схематизацию мужского образа, к чему имелись существенные стилистические предпосылки. Наскальные женские фигуры подчинялись эволюционным стилистическим закономерностям, выражающимся в грацилизации женского образа от стиля к стилю (II–IV). Напротив, мужской образ стилистическим закономерностям не подчинялся и во всех стилях был одинаково грацилен. Это объясняется тем обстоятельством, что, за вычетом копьеметателя из Лоссель, все мужские фигуры никогда не были реалистическими и всегда отличались большим или меньшим схематизмом. Стилистическая же эволюция затрагивала лишь натуралистические изображения женщин и животных и потому не распространялась на мужские сюжеты. Именно преобладающая схематичность последних позволяет думать, что неопределенные антропоморфы были крайним случаем этой схематизации, т.е. относились скорее к мужским сюжетам, с которыми имели идентичную частоту встречаемости. Совместная частота неопределенных антропоморфов и мужчин достигала 22,5%. Таким образом, имелась мужская группа сюжетов (ок. 22,5%) и женская (9,5%). Сюжеты этих групп никогда не образовывали совместных композиций, если не считать случаев присутствия на одном панно, к которому стягивалась значительная часть сюжетов всего святилища (например, в Масса). Мужские сюжеты могли составлять небольшие группы из похожих антропоморфов (Альтамира–3, Ле Комбарель I, Ла Пенья–де–Кандамо–3, Руффиньяк); то же справедливо для женских сюжетов (Ле Комбарель I, Лоссель, Ла Магделен, Ле Рок–о–Сорсье). Таким образом, статистическая и стилистическая чуждость мужских и женских сюжетов дополняется топографической. Все это не подтверждает сексуальную концепцию А.Леруа–Гурана: представители разных полов явно не служили дополнением друг другу и играли различные роли в наскальном искусстве.
Различна была и тенденция к зооморфизации мужских и женских образов: у мужских она иконографически и статистически несомненна (5,9%), а у женских она нерепрезентативна (0,9%). Имеются изображения мужчин–бизонов, что, как отмечалось, исключает женскую трактовку этого животного (по А.Леруа–Гурану, бизон и бык — “женские” животные, а все прочие — “мужские”). Встречаются мужчины с рогами бизонов (Ле Габийю–1, Ле Габийю–2, Ла Пасьега С–1, Ле Труа–Фрер–2), а также мужчина с “хвостом бизона” вместо головы (Пергусе). Сюда же следует отнести антропоморфов с головами черепах из Лос Касарес, поскольку, по В.Е.Ларичеву, черепаха является композиционным эквивалентом бизона в паре бизон–мамонт, черепаха–мамонт. Однако, черепаха — редчайшее животное во франко–кантабрийском искусстве (есть мобильное изображение в Марсула), так что трактовка этого сюжета лишена статистики. Можно упомянуть еще мужчину–мамонта (Ле Комбарель I), мужчину–северного оленя (Ле Труа–Фрер–2), мужчину–льва (Ле Рок–о–Сорсье, Ла Пенья–де–Кандамо–3, Лос Орнос–де–ла–Пенья–2 и, возможно, Альтамира–3, где три звероподобных антропоморфа изображены в “молитвенной” позе Ла Пенья–де–Кандамо–3 и Лос Орнос–де–паПенья–2), мужчину–медведя (Комарк, Ле Комбарель I, Сен–Сирк–2) и мужчину–птицу (Ле Комбарель I). Таким образом, мужские сюжеты были сродственны животным II, III и IV. В женской группе имеются женщины–бизоны (Ле Пеш–Мерль–2) и женщины–птицы (Альтамира–1, Ле Пеш–Мерль–2), откуда можно лишь заключить, что сексуальная трактовка бестиария неприемлема.
В отличие от женских, мужские образы могли участвовать в сценах, которые в наскальном искусстве сводились к одной–двум фабулам. Во–первых, это конфликт мужчины с бизоном с последующим поражением мужчины (Ле Рок–де–Сер, здесь бизона, возможно, замещает овцебык, Виллар, Ласко–3, Сен-Сирк–2, Су–Гран–Лак–2, Эль Пиндаль, в последнем случае фигурки двух поверженных бизоном мужчин[136] можно трактовать и как схематическое изображение лошадиной головы). Возможно, сюда же надо отнести и фигуру копьеметателя из Лоссель, поскольку наиболее вероятным объектом его атаки мог быть бизон (в мобильном искусстве, кроме конфликта мужчины с бизоном из Ложери–Бас, известны еще и конфликты мужчин с медведем: грот дю Пешиале, Дордонь, Франция, и Ле Мас–д'Азиль, мадлен IV). Далее, в Су–Гран–Лак–2 мужчина, атакуемый рогом бизона (очень близкий мужчине, атакуемому бизоном в Сен–Сирк–2), одновременно поражается тройкой стрел. В этом качестве он сближается с ранеными мужчинами из Куньяк и Ле Пеш–Мерль–2, пораженными дротиками. Возможно, сюжеты мужчины, атакуемого бизоном, и раненого мужчины являются частью одного мифа. Следовательно, мужской образ был персонажем мифологии, чего нельзя сказать о женском (см. далее).
Встает, конечно, вопрос о назначении женского образа, и здесь обнаруживается еще одно отличие мужских и женских персонажей. Мужские сюжеты франко–кантабрийского искусства никогда не выступали элементом знаковой системы, в то время как женский образ в стиле IV получил даже особое знаковое воплощение в виде клавиформы. Кроме того, женское изображение могло быть составляющей парного знака (например, Комарк), о значении которого речь пойдет дальше.
Высказанное позволяет сделать вывод, что мужские сюжеты являлись элементами системы образов, выражающих содержание франко–кантабрийской мифологии. Женские сюжеты, напротив, являлись преимущественно элементами знаковой системы, сопровождающей мифологическую иконографию. Семантика мужских изображений составляет проблему. Как мы видели, для всех второстепенных классов животных (II–IV) имелись антропоморфные представители. И представляется нелогичным, что такого представителя не имело “первое животное” (лошадь), поскольку его ведущая роль в бестиарии, казалось бы, предполагала и максимальное антропоморфное представительство. Отсюда возникает предположение, что антропоморфы, не отмеченные чертами зооморфной специализации, возможно, представляли “первое животное”. Это предположение проливает определенный свет на смысл сцены с мужчиной, поражаемым бизоном. Если незооморфный мужчина представлял “первое животное”, а оно отождествлялось с Солнцем, то его конфликт с бизоном, символизирующим Землю, отражал какой–то миф, связанный с солнечным закатом или сменой сезона высокого стояния Солнца сезоном его низкого стояния над горизонтом. Типологически такой миф мог быть архетипом стандартных мифов древнего мира об умирающей и воскресающей природе (Усири, Думузи). По шумерским представлениям, Солнце (Уту) уходило в преисподнюю еженощно, а Луна (Наннар) — раз в месяц. Если конфликт мужчины с бизоном выражал первое из этих представлений, то превращение бизона (Земли) в женщину–птицу (Луну; Ле Пеш–Мерль–2), очевидно, передавал второе. Это предположение подкрепляется тождеством женского образа в знаковой графике с символикой Луны, точнее, лунного месяца.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)"
Книги похожие на "Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Клягин - Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)"
Отзывы читателей о книге "Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)", комментарии и мнения людей о произведении.