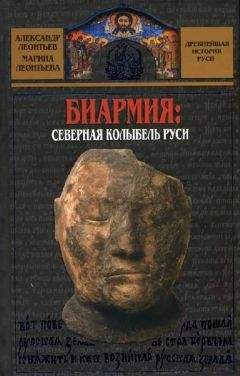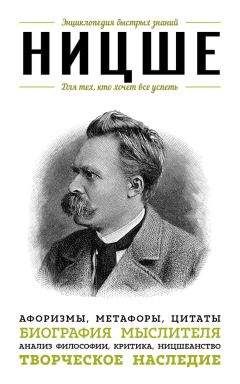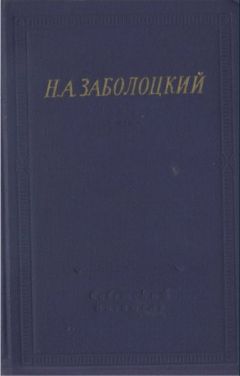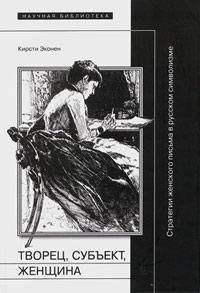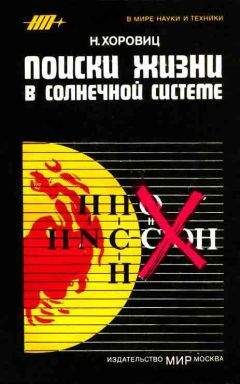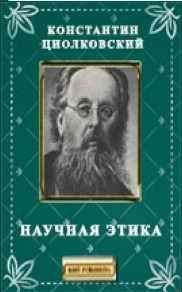Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранные письма. 1854-1891"
Описание и краткое содержание "Избранные письма. 1854-1891" читать бесплатно онлайн.
К.Н. Леонтьев (1831–1891) — поэт-философ и более лирик, чем философ. Тщетно требовать от него бестрепетного объективизма. Все, что он создал ценного, теснейшим образом связано с тем, что было — в его личных чувствах, в его судьбе, как факт его действительной жизни. Этим жизнь Леонтьева и его письма и ценны нам. Публикуемые в данном издании письма и есть «авторское» повествование о жизни.
Отчего это у этих поэтов на бумаге так мало поэзии в жизни? У Пушкина была эта поэзия в жизни, у Лермонтов была, у Фета смолоду. Изо всех других только у Алексея Толстого[596], потому ли, что он был богатый барин, потому ли, что Софья Андреевна[597] имела в себе нечто сатанинское, не знаю, но была.
А этот бедный Майков! Только забывая о нем самом, я могу наслаждаться его стихами. (…)
Впервые опубликовано в журнале: «Русское обозрение». 1897. Март. С. 443.
176. К. А. ГУБАСТОВУ. 1 июля 1888 г., Оптина Пустынь
Вы слишком уж строги к себе в последнем Вашем письме. Говорите, что «писать разучились», а Ваше письмо, как всегда, премилое и преумное; одно в нем нехорошо — слишком кратко… Я очень люблю получать от Вас письма, и если Вы в самом деле… не хочу сказать «старый», а давний и верный друг, то дайте мне слово, что Вы хоть три раза в год будете сами впредь писать мне и без повода с моей стороны. При Вашей твердости и надежности Вы, конечно, исполните это с европейской точностью (точность и выдержка идеи — почти единственная черта, которую я уважаю в «современной» Европе… Есть еще в ней и много прежнего: воинственность, папа, по временам тонкий вкус и порывы идеализма — ну, это, конечно, я очень люблю). (…)
Вы пишете, что прочли «Национальный вопрос»[598] Соловьева и возражения Страхова[599] «Русском вестнике», и что ни то, ни другое вполне Вас не удовлетворяет. Я почти согласен с Вами (и, может быть, был бы и вполне согласен, если бы Вы потрудились объяснить, что именно Вам не по душе). Я не удовлетворен этими двумя трудами по двум разным причинам. Соловьев — единственный из наших писателей, который подчиняет до известной степени мой ум. Ни старые славянофилы (Киреевский, Хомяков, Аксаков), ни сам Данилевский, ни Катков не могли меня умственно подчинить. Мне все казалось и кажется, что я многое вернее, яснее, нагляднее их понимаю. Катков в особенности недостаточен, он самым родом своей деятельности, неустанною заботою о «злобе дня» сузил искусственно свой кругозор (le journalism c’est le tombeau du genie)[600]. В мнениях его часто важно было не то, что говорит человек, а кто говорит. Ему верили в Петербурге, и его заслуга историческая не в прозорливости какой-нибудь (он все говорил для своего успеха вовремя, для государства — поздно), а в том, что он умел свой колокол, в котором серебра было уж не так-то много, высоко и выгодно для акустики повесить. У него можно учиться ловкости и чутью, а не идеям. Ни в печати, ни даже в частных беседах я ни слова от него нового не слыхал. Все это я прежде его и тоньше говорил. Но Вл. Соловьев, сознаюсь с охотой, на меня 50-летнего имел (и имеет) огромное влияние. Это настоящий гений и гений с какою-то таинственною, высшею печатью на челе. Мне очень трудно устоять противу его «обаяния» и не объявить себя открыто почти его учеником. Возражая ему, я все-таки почти благоговею. Жаль, что Вы не потрудились (по-видимому) прочесть целых X–XI моих фельетонов в «Гражданине» («Владимир Соловьев против Данилевского», апрель и май, до 2 июня)… Возражения мои ему основаны на двух разного порядка идеях: 1) на идее (и даже на чувстве) православной богобоязненности (то есть не погрешить бы нечаянно противу нашего догмата. Епископы наши большею частию молчат и прячутся за цензуру). С этой стороны я не смею увлечься свободно его римскими симпатиями, хотя очень склонен (как Вы знаете) к ним. Другая идея: по разумению я понимаю, что соединение Церквей, весьма важное для борьбы противу грядущего антихриста и т. п., если и состоится по воле Божией в какой бы ни было форме, то до этого далеко, и так как никакой Восточный Собор еще не объявил, что всякий верующий православный обязан отныне этим делом заниматься, то я нахожу, что пока и заботами славянофильского (то есть культурного) обособления от Европы не религиозной, не католической мы имеем и право и долг целый хоть век заниматься, и что этого дела хватит еще на 4–5 поколений, а наше дело теперь толкать к этому Россию. Это мое отношение к Соловьеву, к человеку живому, умственно страстному, гениальному и указывающему ясный и твердый путь (хотя бы и ошибочный, быть может).
Ну, а Страхов — это мыслитель мертвый, без знамени, без страсти, без выхода в практическую жизнь, критик Европы XIX века, отрицатель — и больше ничего. Он годится только в логические наставники, в учителя умственной приготовительной гимнастики — и больше ничего.
Я этого человека не уважаю и не люблю, ни литературно, ни лично.
Я даже очень рад, что Соловьев довольно зло прохватил его. Бессильный союзник, умный, но бездушный. Он ведь и с виду какая-то лепешка широкая, «экстензивная, без интензивности». (…)
Впервые опубликовано в журнале: «Русское обозрение». 1897. Март. С. 450.
177. И. И. ФУДЕЛЮ. 6 июля 1888 г.
(…) Намерение Ваше писать о прежних славянофилах — очень хорошо; но, право, не знаю, как бы это точнее и яснее выразиться: хорошо ли будет, если в наше время Вы будете держаться безусловно их взглядов. Конечно, и эти несравненно лучше, чем европейский, рационалистический и эгалитарный либерализм; но так как Вы, видимо, желаете, чтобы я был с Вами вполне откровенен, то я скажу, что мне было бы неприятно видеть Вас в конце 80-х годов остановившимся на этом во многом столь мечтательном и неясном учении. Для того, чтобы отнестись правильно к Ивану Вас(ильевичу) Киреевскому, Хомякову и братьям Аксаковым, надо хорошо изучить, во-первых, Данилевского, во-вторых, надо обратить внимание на те оттенки, которыми отличался Катков от Ив(ана) Аксакова в реформенный период и до конца их деятельности. Потом надо познакомиться со взглядами Герцена на Европу и Россию; наконец, полагаю нелишним обратить внимание и на мои славянофилам возражения, там и сям разбросанные. (…)
1) Данилевский дает ясную научную гипотезу: история есть смена культурных типов (у славянофилов это не так объективно и органически поставлено, и все с каким-то более сердечным и как бы пристрастным оттенком: правда, истина, цельность, любовь и т. п. у нас, а на Западе рационализм, ложь, насильственность, борьба и т. п.). Признаюсь — у меня это возбуждает лишь улыбку; нельзя на таких общеморальных различиях строить практические надежды. Трогательное и симпатическое ребячество, это пережитый уже момент русской мысли. Есть и у Данилевского этот оттенок, но он у него далеко не так преобладает. В одном месте он прямо даже говорит, что прежние славянофилы напрасно впадали в излишнюю «гуманитарность». Итак, Данилевский дает Вам в руки мерило твердое — особый культурный тип (особый, независимо, пожалуй, от того, насколько он хорош, морален и т. д.).
2) Герцен. Под конец жизни Герцен, как Вам, я думаю, известно, разочаровался в западном утилитарном прогрессе и объявил во всеуслышание, что он теперь ближе к славянофильскому, чем к какому-либо другому воззрению. В книге Страхова «Борьба с Западом» (т. 1) Вы все это про Герцена найдете в прекрасном изложении. Герцен был прежде всего эстетик, и притом эстетик, не верующий до конца жизни (вроде Гёте, Байрона и др.). Эти две стороны его личного духа в данном случае очень важны; когда гениальный человек, не верующий лично во Христа и Церковь, верует, однако, в то, что православию еще предстоит историческая жизнь, то нам, христианам, лично для себя верующим, это большая поддержка и утешение, это голос со стороны, это суд объективный и менее нашего пристрастный. Наша с Вами вера в земную будущность православия, в его еще недовершенное земное развитие и такая же историческая вера славянофилов в Россию и Восточную Церковь, — быть может, и ошибочна (хотя и имеет за себя много реальных данных в исторических условиях конца XIX века). И старые славянофилы, и мы с Вами, быть может, верим все в будущность «русского», так сказать, православия — по невольному, глубокому пристрастию и к самой России, и столь чтимой нашей Церкви. Герцен, не веря лично (то есть для собственного спасения), не имея того личного «страха Божия», который имеем мы и который, вероятно, имели Хомяков, Самарин, несмотря на то, что они как-то избегали на него указывать прямо в своих изящных и высоких сочинениях, Герцен, говорю я, мог поэтому быть объективнее и беспристрастнее нас. Кроме того беспристрастия, которое могло быть у него плодом личного неверия в догмат, в загробную жизнь, в Св. Троицу и т. д., у него был еще и другой источник того же беспристрастия. Это его общее миросозерцание — более эстетическое, чем моральное, как я уже сказал. Моральное миросозерцание всегда тенденциознее эстетического. Человек со строго моральным миросозерцанием, которому изменить он не хочет, принужден об одном умалчивать, другое иногда даже искажать из опасения повредить; эстетик свободнее, ему нравится и вредное, и порочное, если оно сильно, изящно, выразительно. Заметьте — Вы нигде не найдете ни у Киреевского, ни у Хомякова, ни у Самарина нападок на скромного буржуа, на среднего европейца. Они понимали, конечно, что этот всепоглощающий тип пошл и бесцветен, но они не смели, не хотели нападать на него так беспощадно и настойчиво, как нападал Герцен. Для Герцена этот «средний европеец» был, напротив того, главным предметом ненависти. И от социалистов он отшатнулся, и европейского рабочего разлюбил, как только, поживши в Европе, понял ясно, что социализм, и в особенности коммунизм, хочет всех так или иначе привести к однообразию и среднему уровню, и рабочий западный борется на жизнь и смерть только для того, чтобы самому стать таким же средним буржуа, как и тот, против которого он воюет. Идеал этого рабочего до того прост, непоэтичен, сух и груб, и сер, что, понятно, Александру Ивановичу Герцену, московскому настоящему барину, изящному по вкусам, идеальному по воспитанию, ничего не оставалось, как только отвратиться с презрением от этого блузника, который согласен быть самоотверженным героем баррикад лишь для того, чтобы со временем воцарился такой мелочный, неподвижный и серый порядок полнейшей равноправности, когда ум и героизм и все идеальное станет лишним. Сокол, самоотверженно высиживающий куриные яйца окончательного равенства и прудоновской «Justice»[601] (все равны и все неподвижны). Тогда этот русский ум, изящный и великий в своем только кажущемся легкомыслии, отвернулся от этой средней Европы, сказав: «Здесь чувствуешь, что стучишься головой о потолок мира завершенного и обратившись с надеждой к России, неожиданно для самого себя понял, что он ближе к славянофилам, чем к западникам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранные письма. 1854-1891"
Книги похожие на "Избранные письма. 1854-1891" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891"
Отзывы читателей о книге "Избранные письма. 1854-1891", комментарии и мнения людей о произведении.