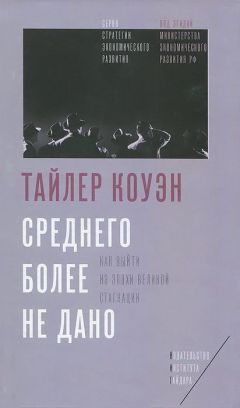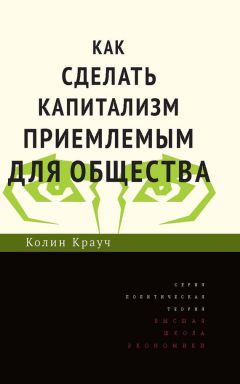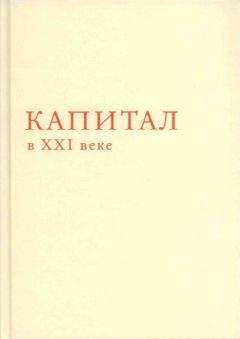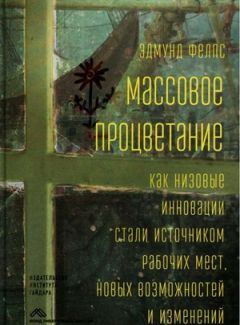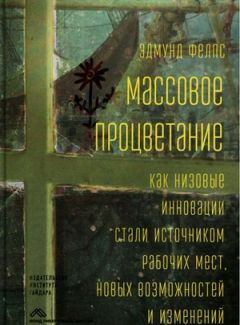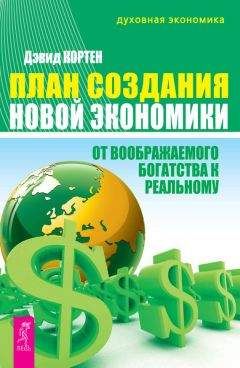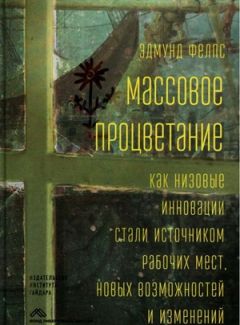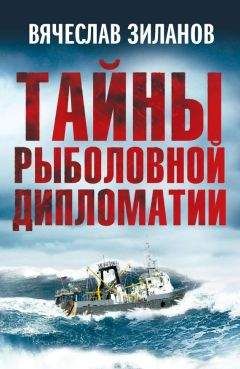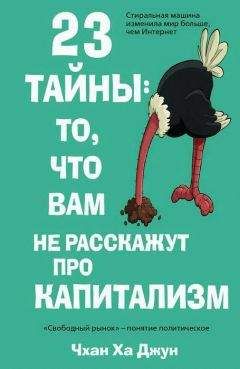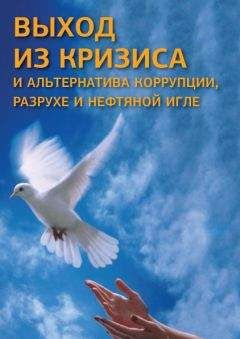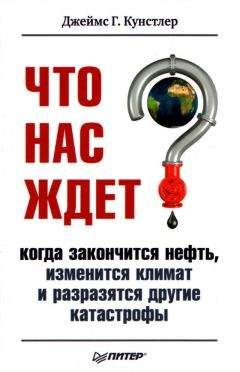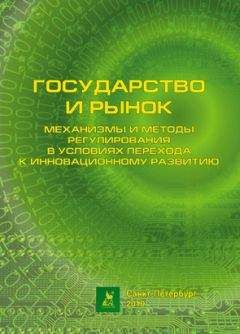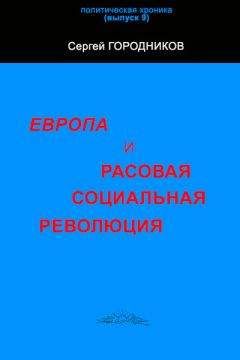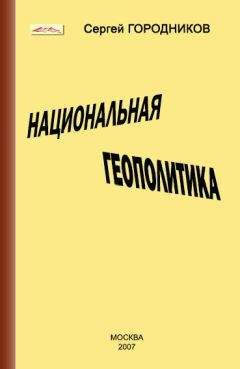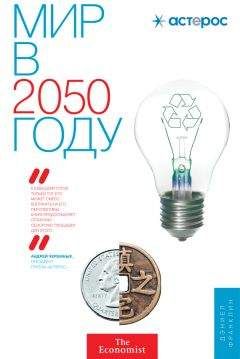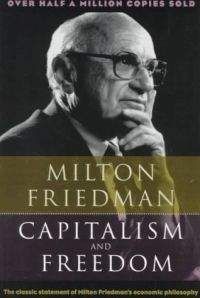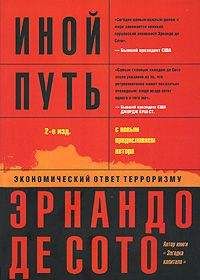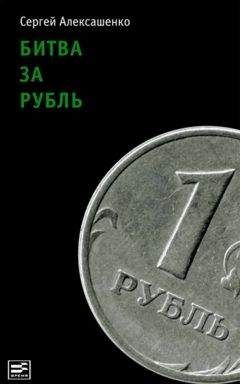Эдмунд Фелпс - Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений
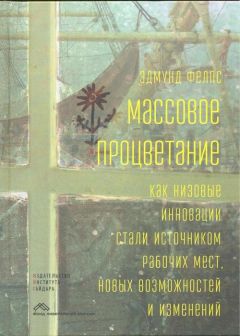
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Описание и краткое содержание "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений" читать бесплатно онлайн.
В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд на причины "богатства народов". Почему в одних странах в 1820-1960-х годах наблюдался резкий рост благосостояния, сопровождавшийся ростом не только материального богатства, но и "процветанием" — осмысленным трудом, самовыражением и личностным ростом для большего числа людей, чем когда-либо прежде? Фелпс связывает это процветание с современными ценностями — желанием творить, создавать и исследовать что-то новое, справляться с возникающими трудностями. Эти ценности подпитывали низовой динамизм, который был необходимым условием для широких инноваций.
Однако в последние десятилетия подлинные инновации и процветание сдают свои позиции. Исследования показывают, что в Америке количество инноваций и степень удовлетворенности трудом снижались с конца 1960-х, а послевоенная Европа так и не смогла вернуться к былому динамизму. Причина этого, по Фелпсу, заключается в том, что современные ценности, лежащие в основе современной экономики, оказались под угрозой вследствие укрепления традиционных, корпоративистских ценностей, которые ставят государство и общество над индивидом. Судьба современных ценностей является сейчас самым насущным вопросом для Запада: смогут ли страны Запада вернуться к современности, низовому динамизму, подлинным инновациям и самореализации личности или же мы и дальше будем иметь дело с ограниченными инновациями и процветанием, доступным немногим?
Возможно, есть еще и другие факторы, оставшиеся вне поля зрения. Не исключено, что высокий уровень государственной собственности и низкий рост в равной мере являются следствиями третьего фактора — пренебрежения правами собственности или же открытой неприязни к частной собственности, которые приводят к тому, что любой состоятельный частный инвестор, достаточно смелый, чтобы рискнуть своим капиталом, начинает бояться экспроприации. В такой стране наличие государственных предприятий — все же лучше, чем отсутствие любых предприятий. Но это никоим образом не меняет выводов из приведенных нами данных. В тех случаях, когда страна выступает против частной собственности на предприятия, то есть когда она придерживается социалистического направления, она страдает от низкой экономической эффективности.
Корпоративизм: претензии и эмпирические данные
Классический корпоративизм, например у Муссолини, стремился перестроить капиталистическую экономику так, чтобы ускоренный экономический рост (рост производительности и различных национальных отраслей) значительно превосходил скромные возможности континентального капитализма. От государственного сектора требовалась большая инициативность, от частного — большая управляемость, а для собственников все это стало «собственностью без контроля». Стремление к большему росту национальной экономики и могущества должно было подчиняться соображениям солидарности и «социальной защиты». Она означала «консультации» государства с «социальными партнерами», а также субсидирование регионов или отраслей. С точки зрения классического корпоративизма, государство может использовать любые меры во имя солидарности и защиты, когда возникает необходимость в возобновлении экономического роста после его чрезмерного замедления на слишком долгое время.
Эта система, в которой, в принципе, государство способно по собственному разумению вмешиваться в экономику безо всяких ограничений, создает серьезные моральные риски; а в той мере, в какой этим рискам подвержены политики, их прегрешения становятся частью работы системы. Возможно, конституционная демократия способна и готова ограничивать подобные вмешательства, но не всегда ей это удается. Даже в демократии законодатели, преследующие собственные интересы, временами готовы использовать свои голоса, а главы агентств — свои полномочия для поддержки определенных проектов, получая взамен поддержку со стороны групп интересов, которые способны помочь им остаться у власти. В этом политическом процессе «рост» может занимать весьма скромное место в списке приоритетов или даже вовсе исчезнуть из него, даже если его продолжают проповедовать. А когда политики озабочены прежде всего собственной политической поддержкой, «социальная защита» на самом деле тоже уже не имеет большого значения. Политики могут оказаться продажными и предлагать свою защиту регионам, компаниям или профсоюзам в обмен на деньги в конверте — откаты. (В Италии 1990-х годов взяточничество стало настолько всеобщим, что итальянцы сами говорили, что живут в Tangentopoli — «Взяткограде».)
Риски корпоративистской системы этим не ограничиваются. Только если у инсайдеров есть хорошие связи, позволяющие им стать клиентами политиков, система может работать на защиту инсайдеров от аутсайдеров. Клиентам и приближенным государства не нужны контракты, оплачиваемые скудными средствами налогоплательщиков, если их предприятиям дарована монопольная власть. Выигрыш инсайдеров — это проигрыш аутсайдеров, которые могут потерять возможность открыть фирму, проникнуть в ту или иную отрасль, сделать удачную карьеру — и все это не зависит от того, «защищены» ли они субсидиями, обеспечивающими здравоохранение, питание и отопление. Это и есть бремя крайнего корпоративизма: потери одних (немногих или многих), лишаемых таких базовых благ, как карьера, не могут быть морально компенсированы приобретениями привилегированных (будь их много или мало).
Для определения того, насколько хорошо корпоративистские экономики справляются со своей задачей, нам нужны критерии и данные, позволяющие выяснить, какие страны являются относительно корпоративистскими, и, если получится, оценить степень корпоративизма. Для начала имеет смысл поискать под фонарем, где достаточно светло. Обычно считается, что уровень директивности государства в экономической сфере оценивается общим размером государственного сектора, но не все из таких оценок полезны. Хотя действительно корпоративистская экономика нуждается в армии бюрократов, которая управляла бы ею, раздутый государственный сектор сам по себе не является надежной мерой корпоративизма. В 1960 году в США была самая большая среди всех стран «Большой семерки» доля занятых в государственном секторе — 15,7 %. Располагая армией солдат и школьных учителей, в материальном отношении она была, пожалуй, самой мощной корпоративистской страной. Но мало кто решился бы утверждать, что она была наиболее корпоративистской страной и по духу. К тому же другие страны быстро наращивали соответствующие показатели. К 1980 году Великобритания и Канада преодолели отметку в 16,7 %, а Франция, Германия и Италия лишь незначительно отставали от этого уровня. Очевидно, уровень занятости в государственном секторе не позволяет провести различие между развитыми экономиками (см.: OECD, Historical Statistics 1960–1981).
Более качественной мерой государственного влияния являются всевозможные государственные закупки, а также субсидии, поддерживающие определенные начинания, и трансферные платежи определенным людям. Государственные закупки и субсидии — стандартная мера уровня государственного управления ресурсами в экономике; трансферные платежи могут в некоторых случаях быть частью общественного договора, необходимого для реализации корпоративистских целей. По этому общему показателю к 1995 году экономики с высокими доходами существенно различались. На одном конце находились Швеция с 65,2 % ВВП (55 % в 2005 году), Франция с 54,4 % (53>3 %)> Италия с 52,5 % (48,1 %), Бельгия с 52,3 % (52,1 %) и Голландия с 51,5 % (44,8 %). На другом конце — Америка с 37,1 % (36,3 % в 2005 году), Британия с 43,9 % (44,1 %) и Испания с 44,4 % (38,4 %). В середине стояли Германия с 48,3 % ВВП (46,8 %) и Канада с 47,3 % (38 %)[141]. Среди менее крупных стран Финляндия находилась на отметке 61,5 % ВВП (50,1 %), Дания — 59,3 % (52,6 %), а Швейцария — 34,6 % (35 %). Но прежде чем объявить Швецию самой корпоративистской страной (а Бельгию поставить на третье место), нужно провести более тщательное исследование.
Среди крупных экономик с высокими доходами Франция, Испания и Италия демонстрируют наихудшие результаты по наличию юридических барьеров на вступление в те или иные отрасли; Испания и Италия — по барьерам для предпринимательства; Италия, Франция и Испания — по общеэкономическому регулированию товарного рынка; Испания и Франция — по законодательству о конкуренции и его исполнению; тогда как Голландия, Испания, Швеция и Германия считаются странами с наиболее развитым законодательством в защиту занятости. В целом Италия, Франция и Испания показывают наихудшие результаты по этим показателям, тогда как Британия, Америка и Канада — наилучшие, а в середине оказываются Швеция, Голландия и Германия. Из менее крупных стран с высокими доходами в середине обычно оказывается Швейцария, Ирландия набирает неплохие баллы, а Дания — еще лучше. Общая оценка вмешательства в сферу бизнеса, полученная на основе данных ОЭСР и названная в The Economist (июль 1999 года) индексом «бюрократических рогаток», немного отличается: Италия и Франция получают 2,7 балла, Бельгия —2,6, Германия — 2,1, Испания и Швеция — 1,8, Британия показывает наилучший результат (0,5), следом за ней идет Америка (1,3) и Голландия (1,4). (Канада и Австрия не были включены в рейтинг.) Все эти результаты информативны, хотя они позволяют судить, скорее, об уровне контроля и препонах в экономике в целом, чем о степени избирательного вмешательства со стороны государства и дирижизма[142].
Хотя вышеприведенные показатели описывают инструментарий корпоративистской экономики, другим ее аспектом является то, в какой мере фиксация заработной платы опирается на трехсторонний механизм, связывающий государство с профсоюзами и деловыми конфедерациями. Подобный институт все еще составляет ядро итальянского корпоративизма, наследуя как риторике Муссолини, так и послевоенной реальности. Индексы «координации профсоюзов и работодателей», выстроенные Стивеном Никеллом, показывают лишь ничтожную величину подобного согласования в США и Канаде, незначительную — в Британии (хотя Конфедерация британской промышленности все еще существует). Наиболее высокая степень координации обнаруживается в Швеции, Австрии и Германии; далее идут Франция, Италия, Бельгия и Голландия; на нижних уровнях оказываются США, Великобритания и Канада[143].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Книги похожие на "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эдмунд Фелпс - Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Отзывы читателей о книге "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений", комментарии и мнения людей о произведении.