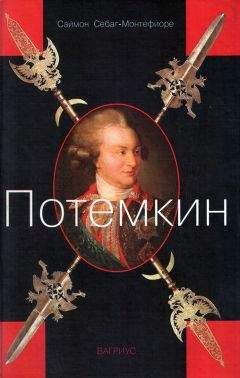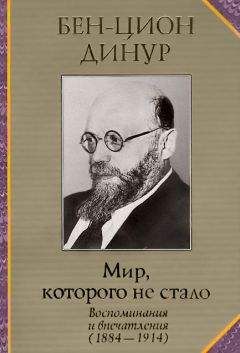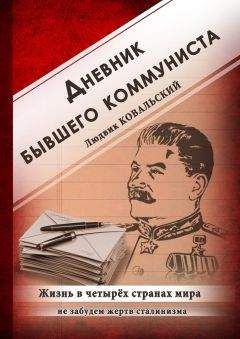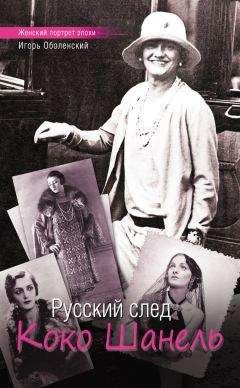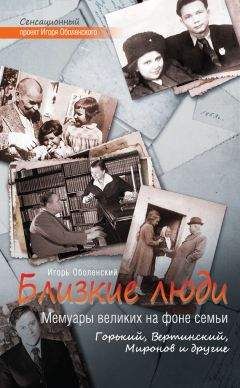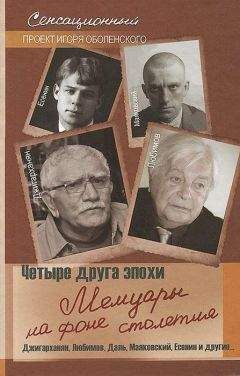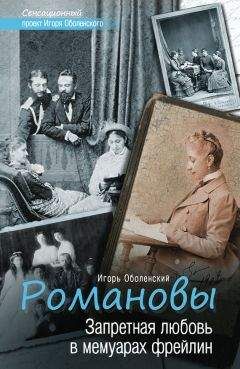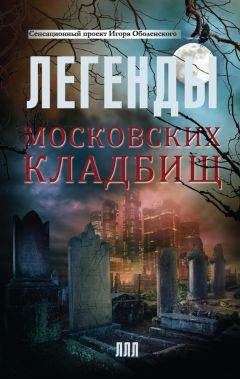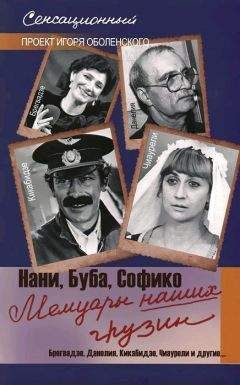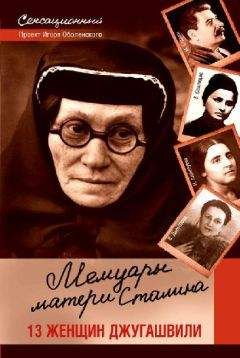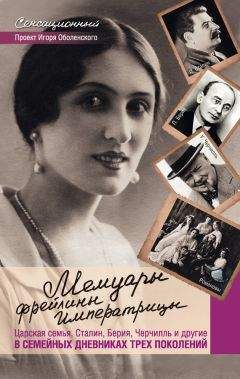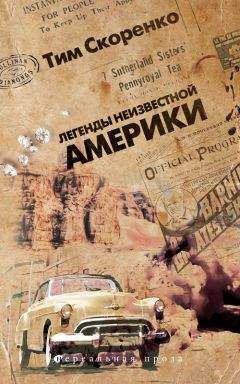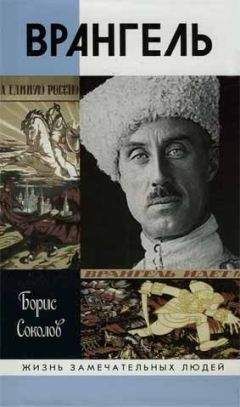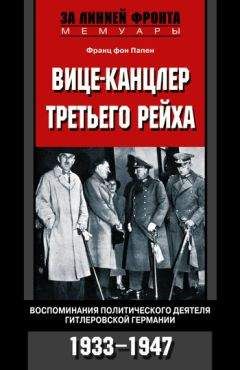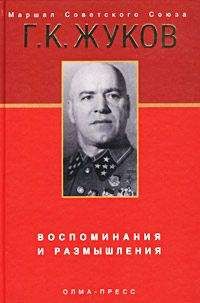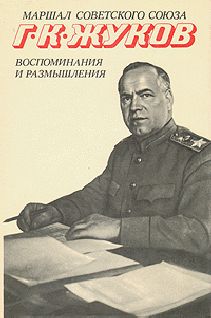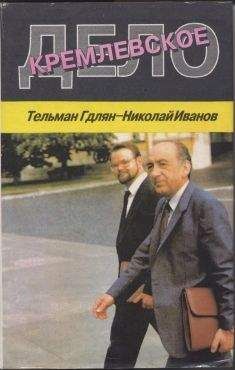Владимир Оболенский - Моя жизнь. Мои современники
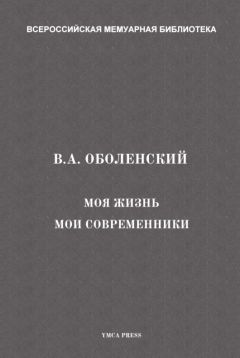
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь. Мои современники"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь. Мои современники" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания земского деятеля и кадетского политика князя В. А. Оболенского охватывают период от рождения автора в 1869 году до эвакуации из врангелевского Крыма. Книга замечательная — Оболенский не просто живой рассказчик, он тонко чувствует, что читателю может оказаться непонятным. Поэтому Оболенский точно комментирует и разъясняет те социальные реалии, которые современникам часто казались очевидными и не требующими упоминания. Книга позволяет понять, как была устроена старая Россия на самом деле. Еще одно достоинство Оболенского — он незашорен и обладает широким взглядом на описываемые события.
— Ну, Богданов так Богданов, — скромно соглашается опрашиваемый…
В Псковской губернии обыкновенно всех незаконных детей называли Богдановыми (Богом данные). Так как в результате нашей переписи крестьяне ожидали прирезки земли, как юридического акта, исходящего свыше на основании неведомого им закона, то на всякий случай незаконные сыновья старались себя вписать в наши карточки законными, а соседи, боясь их конкуренции, обязательно восстанавливали истину. Иногда на этой почве возникали бурные споры. Спорили о том, при каких обстоятельствах родился сорок лет тому назад стоявший передо мной бородатый мужик от матери-солдатки, — при жизни солдата или после его смерти. Если при жизни, то можно ли считать его законным и писать Петровым, или он должен числиться Богдановым, и т. п.
— Сколько лошадей? — прерываю я эти споры.
— Два меренка.
— Коров?
— Три.
— Телят?
— Одно.
О всех несозревших животных говорили в среднем роде: одно жеребенок, одно поросенок и т. п.
Когда доходила очередь до регистрации внеземледельческих промыслов, то неопытные статистики ставили вопрос в наиболее понятной форме: — Ну, а зимой чем занимаешься? — На такой вопрос следовал, однако, всегда один и тот же совершенно непристойный ответ, конфузивший статистика и вызывавший веселье и остроты в толпе.
Подворная перепись шла в общем гладко. Гораздо труднее было составить так называемый «поселенный бланк» с установлением качества земли и распределения ее на хозяйственные угодья.
Первым делом я требовал предъявления документов и плана. Деревенный старшина опрашиваемой деревни доставал из-за пазухи и осторожно разворачивал грязные платки, в которых хранились документы. К этим документам (планам, уставным грамотам и владейным записям) крестьяне относились с особым благоговением.
Однажды из платков мужики вынули карту Европейской России и предъявили мне.
— Это что же такое?
— А плант наш.
— Какой же это плант! Это плант всей России, а не вашей деревни.
Крестьяне долго спорили со мной, водя корявыми пальцами по карте Ильина и указывая, где проходят их межи.
Как попала карта России в поголовно неграмотную деревню и какой шутник подменил ею деревенский план — мне выяснить не удалось. Во всяком случае много лет лежала карта Ильина, завернутая в платки, за образами, и, вероятно, не раз эти неграмотные люди в спорах с неграмотными соседями доказывали свое право владения каким-нибудь лужком на основании очертаний Балтийского и Черного морей…
То обстоятельство, что, никогда не видав расположения их угодий, я ориентировался в распределении их по плану, очень импонировало крестьянам.
— Ишь ты, ему там все видно, — удивленно говорили они. Но тем не менее старались всячески меня надуть. Ведь в их представлении дело шло об «ревизии», и они считали, что чем меньше за ними будет числиться хорошей земли, тем больше им прирежут.
— Кака у нас земля, хверщ один.
— Скала, одно слово — скала…
— А вот в ржаном поле земля у вас совсем хорошая, мягкая, суглинистая (я видел их ржаное поле проездом, но делаю вид, будто вижу это на плане).
— Я говорил, что он все в планту видит, — уныло произносит один из мужиков.
— По планту-то сугниль показана, — не унимается другой, — а она как есть гнила. Засохнет — сохой не нять, а как размокнет — прямо глей один, др… туха…
Одновременно с нами почвоведы собирали образцы почв, и на основании объективного материала я мог делать поправки к сбивчивым показаниям крестьян. Гораздо хуже обстояло дело с лесами и сенокосами. Тут нужно было доводить их всевозможными словесными маневрами до полуистины, а истину получать уже путем субъективных догадок, основанных на долгом опыте.
— Ну, какой у вас покос в аржаном поле? Хороший?
— Хороший?.. — Остречек да облец (местное название трав из семейства осоковых), а где помочливее — осока. Вот какие у нас покосы. Не съестная трава. Коровы, те еще жуют, а лошади не принимают, ей-богу.
— Я ж видел, едучи к вам, этот покос. Травы там мягкие растут — все дятлева (клевер) да тимофейка.
— Оно, конечно, куль меж трава будет помякше, — соглашается только что божившийся мужик, — а вот вглыбь, как зайдешь в самый лог, так, право слово, — одна осока.
Долго торгуемся из-за каждого лужка, каждой пожни, спорим из-за укосов и т. д….
Задаю вопрос о лесе.
— Лес у вас есть?
— Какой у нас лес! — Прусняк да патебник, корзину и ту не сплетешь.
— А в плане у вас показано двадцать десятин леса.
— Где же тот лес, старики? — обращается разговаривающий со мной деревенский лидер к своим односельчанам, и в тоне его столько искреннего недоумения, что я даже начинаю сомневаться в существовании березовой рощи, которую видел собственными глазами возле самой деревни.
— Ту-уу, — отвечают мужики хором, — леса мы у себя и не видали.
— Нет, старики, нужно им правду говорить, — спохватывается какой-то хитрый мужичонка подхалимского вида. — Им в планту лес виден. Дозвольте сказать ваш благородию, точно, был тот лес в стариках, когда землю им нарезали, да свели его еще родители наши, нам не оставили.
— Но березовая роша возле деревни ведь ваша?
— Разве же это роща! Так, куль дороги деревца поостались, а дальше и не ступить — мхи да топь. Позапрошлый год корова зашла — утопла. Правда, старики?
— А как же, Федорова корова, рыжая. Вся провалилась, одни рога торчат. Вот осенью, как заморозки пойдут, приезжай-ка, боярин, к нам. В этот самый лес пойдем журавы (клюква) да глыжи (морошка) собирать. Этого добра много. Бабы полные корзины таскают. А за дровами мы к барину в его рощу ездим. Нужно правду говорить, старики, так-то…
Одни за другими проходят мимо меня васютинские, лапшинские, чижевские мужики. Одни как другие, одинаково крестятся, отвешивают поклоны, мнутся, когда их усаживают, заводят разговоры на тему о «ревизии», одинаково хитрят, приуменьшают размер своих владений, урожаев, укосов… И все время между мной и ими происходит глухая борьба. Я задаю им сбивающие их с толку вопросы, тоже хитрю и всячески добиваюсь правды. Я их мучаю и они меня мучают. В конце концов мои вопросы доводят их до полного обалдения, и уходят они от меня усталые, потные, но все же убежденные в том, что меня надули и что земли им прирежут вволю. И, чем больше мы колесим по уезду, чем чаще объявляем, что никакой прирезки они не получат, тем больше в них крепнет вера в «царскую милость».
Однажды, после произведенной мною переписи, богатый крестьянин-собственник вырубил и продал весь лес со своей пустоши. А когда соседний помещик спросил его, зачем он это сделал, ответил:
— Не слыхали разве, что ездят здесь люди от царя, переписывают. Значит и землю скоро делить будут. Что ж, думаю, лесу моему пропадать. Ведь на кровные денежки куплен. Ну и вырубил. Теперь пускай делят землю. Свое с нее выручил.
А то помню еще такой случай: во время переписи я услышал во дворе шум, крики и женский плач. Выглянув в окно, я увидел женщину, которая рвалась к двери, а мужики ее держали за руки и не впускали.
— В чем дело? — спросил я мужиков.
— Да так, ваше благородие, глупая баба. Ни к чему ей здесь быть. Только зря беспокоить хочет вашу милость.
Баба продолжала рваться и голосить, и я велел впустить ее. Она ворвалась вихрем и бух мне в ноги:
— До вашей милости, до вашей милости, — бормочет, а слезы так и льются ручьями.
Я с трудом поднял ее:
— Ну, что тебе надо? Говори.
— До вашей милости… Семь верст проперла, все боялась, что уедешь; тогда что бы я делать стала…
Снова рыдания прервали ее речь, а я смотрел на нее в полном недоумении. Наконец она немного успокоилась, утерла глаза фартуком и продолжала:
— Вдовая я, одна с мальчонком живу. А на него надел не записан, значит — безземельный. Вот нынче, как мужики наши сюда писаться-то собрались, и я с ними хотела пойти, чтобы мальчонка-то записать. А они меня не берут, бают — нет на мальчонка никаких правов. Изобьем, говорят, если за нами пойдешь… Ну, так я их вперед пропустила, а потом одна прибегла. Думала, что они уже отписались. А вот вышло, что поймали меня, да кабы ты в окошко не глянул, избили бы до смерти…
Я пытался объяснить бабе, что мы землю не раздаем, и ее мальчик никакой выгоды не получит от того, что я его запишу, но мои объяснения вызвали лишь новый поток слез. Она снова упала на колени и, цепляясь за мои ноги, голосила:
— Запиши мальчонку, будь милостив, запиши!..
Чтобы избавиться от бабьих слез и причитаний, я вынужден был взять перо и поводить им по бумаге.
Баба сразу успокоилась, встала с колен и, широко улыбаясь, отвесила мне степенный поясной поклон.
— Спасибо, кормилец, что пожалел меня вдовую…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь. Мои современники"
Книги похожие на "Моя жизнь. Мои современники" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Оболенский - Моя жизнь. Мои современники"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь. Мои современники", комментарии и мнения людей о произведении.