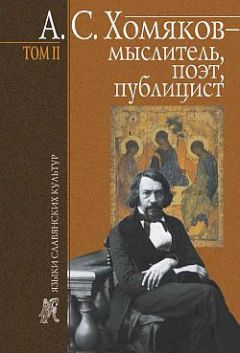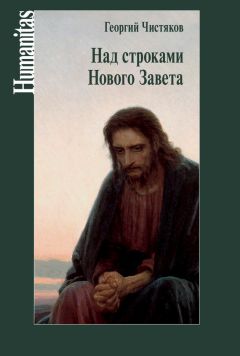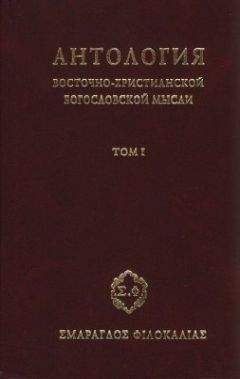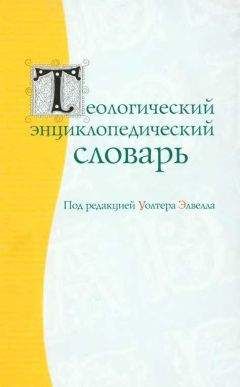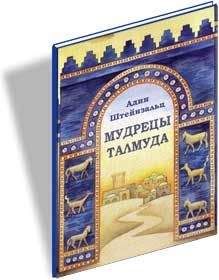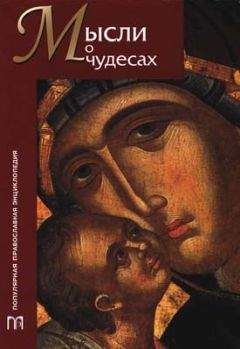Борис Тарасов - А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1
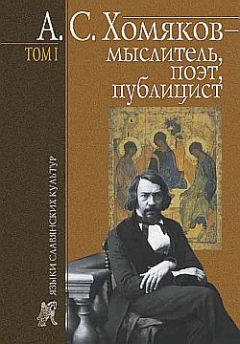
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
Описание и краткое содержание "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1" читать бесплатно онлайн.
Предлагаемое издание включает в себя материалы международной конференции, посвященной двухсотлетию одного из основателей славянофильства, выдающемуся русскому мыслителю, поэту, публицисту А. С. Хомякову и состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького. В двухтомнике публикуются доклады и статьи по вопросам богословия, философии, истории, социологии, славяноведения, эстетики, общественной мысли, литературы, поэзии исследователей из ведущих академических институтов и вузов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии. Своеобразие личности и мировоззрения Хомякова, проблематика его деятельности и творчества рассматриваются в актуальном современном контексте.
В заключение хочется обратиться к словам А. С. Хомякова, который в полемике с известным историком и западником С. М. Соловьевым высказал вполне здравую и чуждую национальной ограниченности идею: «Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного быта»[253]. Что касается идеализации мира Древней Руси, которая, несомненно, отмечается у всех славянофилов, то ее можно расценить как мечту о гармоничном обществе и процветающей России, до которых нам так же далеко, как и во времена Алексея Степановича Хомякова. Эти мечтания по поводу будущего завершают его знаменитую статью «О старом и новом», где содержатся противоположные оценки былой русской действительности: «Тогда в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющее нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся между бытием и смертью»[254].
В. А. Викторович
«Выяснение» славянофильства: от Хомякова к Достоевскому
«Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало» (V, 52)[255]. Так Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), обозначивших его собственное открытие «силы» славянофильской «мысли». Отныне Достоевский становится вполне сознательным «распространителем» «новых начал сознания, внесенных славянофилами», по точному выражению В. В. Розанова[256].
Автор «Зимних заметок…», говоря об истории восприятия славянофильских идей, как будто говорит и о себе. Он сам прошел этот непростой путь.
В фельетоне «Петербургская летопись» 1 июня 1847 года молодой писатель задел один из наиболее принципиальных моментов полемики западников и славянофилов. Я имею в виду следующее рассуждение «летописца» о направлении «современной мысли»: «Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. <…> Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками. <…> Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных. <…> Другие говорили, что ведь есть же и без того добродетель, что она существует на свете, что существование ее уже подробно изложено и неоспоримо доказано во многих нравственных и назидательных сочинениях» (XVIII, 27). Кто эти «иные» и «другие», над кем иронизирует «летописец»? Очевидно, это враги натуральной школы, а среди них, несомненно, славянофилы как наиболее принципиальные противники нового направления в литературе (Ю. Ф. Самарин называл его «аналитическим направлением»).
Противопоставление «анализа» и «добродетели» – довольно характерная примета славянофильской критики и публицистики. Возможно, Достоевский метил конкретно в самого А. С. Хомякова, за год до того напавшего на «наше просвещение»: «Всеразлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе, – таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли»[257].
Достоевский в «Петербургской летописи» 1 июня 1847 года, оспаривая мнение Хомякова и защищая современный «дух анализа», возвращал читателя к позиции, выраженной В. Белинским и В. Майковым (например, в статье последнего «Анализ и синтез», напечатанной в «Карманном словаре иностранных слов», программном документе петрашевцев). Однако некоторый оттенок в рассуждениях Достоевского отличает его от западнических соратников – это нравственный, духовный смысл, который он придает слову «анализ». Для него анализ – необходимый этап в нравственном самоочищении личности и общества, недаром в общий семантический ряд ставится здесь же слово «исповедь» («Наступает какая-то всеобщая исповедь»). Любопытно, что в начале 1860-х годов, вернувшись к этой проблеме в один из самых критических моментов своей жизни (исповедальная дневниковая запись, сделанная у гроба жены), Достоевский примиряет западническую и славянофильскую точки зрения: «Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе» (XX, 174). Такова итоговая для Достоевского дихотомия познания. Полагаю, уже в 1847 году, защищая одну из сторон, западническую, Достоевский как бы предчувствует будущее свое решение, вводя нравственно-духовный аспект в понятие «анализ».
Спор об анализе и синтезе, будучи в целом гносеологическим, подразумевал глубокий онтологический подтекст. Его тогда же приоткрыл достаточно недвусмысленно Хомяков: «Но нам возможны, и возможнее даже, чем западным писателям <…>, обобщение вопросов, выводы из частных исследований». Кому это «нам»? Разумеется, Востоку, славянам, русским, той «земле, которой вся духовная жизнь ведет начало свое от византийских проповедников»[258].
Прошел ли ранний Достоевский мимо этого, в общем-то, самого существенного момента всего спора?
Обратим внимание на еще один полемический выпад в раннем фельетоне Достоевского: «Скажут: народ русский <…> религиозен и стекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо, но особенности тут нет никакой <…>. А знает ли он историю московских святителей, св<ятых> Петра и Филиппа? Конечно, нет – следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории» (XVIII, 25). Как видим, фельетонист уклонился от прямого ответа на вопрос о религиозности русского народа, но косвенно, логикой своего рассуждения давал понять: о какой истинной религиозности может идти речь, когда народ не знает существа предмета? Типичная логика позитивиста, хотя и отличающаяся от более радикального взгляда Белинского, через полтора месяца после фельетона Достоевского, заявившего в знаменитом Зальцбруннском письме к Гоголю: русский народ – «по натуре своей глубоко атеистический народ».
Любопытно, что поздний Достоевский почти слово на слово отвечает себе же, раннему (далеко не единственный у него случай самодиалога) в «Дневнике писателя» 1876 года: «Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе <…>, слыхивал об этом Боге – Христе своем от святых своих <…>, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится» (XXII, 113). Как видим, одна и та же картина: народ, стекающийся к мощам своих святых, вызывает у Достоевского в 1847 и в 1876 годах противоположные чувства и мысли. Финал действительно выходит не похожим на начало.
Достоевский-публицист в «Петербургской летописи» довольно отчетливо проявил западническую ориентацию. С его точки зрения, современная Россия, русский народ реализуют «идею Петра». Нетрудно отыскать ближайший источник этих воззрений. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», опубликованной в «Современнике» незадолго до фельетона Достоевского, Белинский утверждал: «Как и все, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого». Знакомство с историософскими воззрениями славянофилов не прошло, однако, бесследно для молодого писателя, и здесь нас ожидает еще один случай полемики с самим собой, но теперь уже в границах 1840-х годов.
В объяснении для следственной комиссии по делу о петрашевцах (1849) Достоевский, излагая свои взгляды, опирается на тезис о различии исторических путей России и Запада: если там цивилизация складывалась через «завоевание, насилие», подчинение «авторитету», то у нас спасительной была «одна теплая, детская вера» в патриархальную власть (XVIII, 123). Достоевский таким образом повторил мысль, усиленно пропагандируемую славянофилами[259].
Неслучайность совпадения подтверждает следующая затем полемика с Белинским; причину своей размолвки с критиком подследственный объяснил расхождением взглядов на литературу: «Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого» (XVIII, 127). Достоевский вновь – вольно или невольно – повторил одно из краеугольных положений славянофильской критики.
Удивительно, но два «славянофильских» показания Достоевского не вызывают недоверия, несмотря на то что сказаны под следствием. Во-первых, Достоевский ссылается на свидетелей, могущих подтвердить, что те же мысли он высказывал еще до ареста. Во-вторых – и главное – основательность, последовательность и продуманность этих показаний развеивают естественные сомнения в их достоверности. В данном случае подследственный говорил правду, отсюда столь уверенный тон искренности и убежденности. В публицистических статьях начала 1860-х годов Достоевский будет повторять те самые мысли, которые он сформулировал перед лицом следственной комиссии. Так что истоки его «почвенничества» следует искать именно здесь, в 1840-х годах. Во всяком случае, можно констатировать усиление в его сознании славянофильских начал к маю 1849 года сравнительно с маем 1847.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
Книги похожие на "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Тарасов - А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
Отзывы читателей о книге "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1", комментарии и мнения людей о произведении.