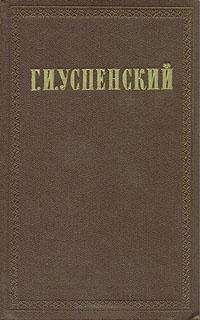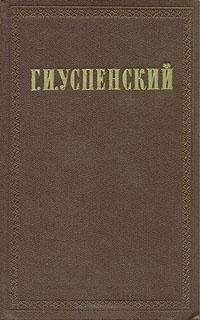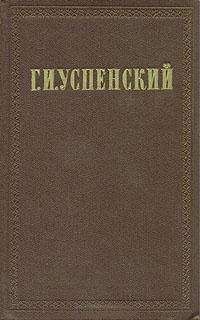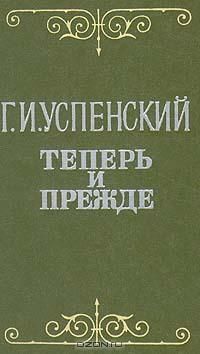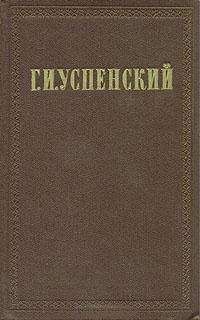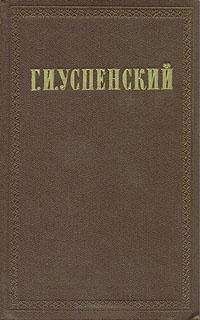Николай Михайловский - Г. И. Успенский как писатель и человек
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Г. И. Успенский как писатель и человек"
Описание и краткое содержание "Г. И. Успенский как писатель и человек" читать бесплатно онлайн.
«Глеб Успенский – один из любимейших русских писателей. Кроме огромного и вполне оригинального таланта, который общепризнан, он мил и дорог своему читателю еще чем-то другим, что труднее уловить и указать, чем талант…»
Далее, с какой стати высокодаровитый беллетрист занимается публицистикой? Дело здесь не в формальных подразделениях литературы, не в департаментах каких-нибудь или министерствах, с присвоенными каждому из них особыми мундирами, а в экономии и естественном распределении литературных сил. Публицистикой можем заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы каждый публицист обладал и поэтической силой, которая была бы подспорным средством высокой важности, а каждый художник, я думаю, даже должен быть публицистом в душе. Вообще, чем богаче и разностороннее внутренняя природа писателя и его средства воздействия на общество, тем, разумеется, лучше. Пусть писатель будет одинаково богат и творческою силою, и силою логического анализа, пусть он даже предъявляет плоды той или другой силы на бумаге. Мильтон написал «Потерянный рай», но он же написал и «Защиту английского народа»{6}; в нашей литературе автор романа «Кто виноват?» был публицистом и т. д. Подобных примеров можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смешение публицистики с беллетристикой в тех пропорциях, какие усвоил себе Успенский, то читатель, можно наверное сказать, находится в относительном проигрыше. Назначение логического анализа – разрезать, расчленять живые явления; назначение поэтического творчества, напротив, – воссоздавать их именно в их живой цельности. Оба эти процесса могут иметь место в голове одного и того же богато одаренного писателя, но в исполнении на бумаге в одном и том же произведении им очень трудно ужиться рядом, не нанося друг другу ущерба. Последние произведения Успенского имеют, бесспорно, большую цену, что уже видно из того обилия разговоров, которые вызывала почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не пожалеть, что он не давал простора своей огромной художественной способности.
Я вовсе не думаю читать наставления, да наставлениями ничего и не поделаешь. Когда писатель намеренно употребляет тот или другой невыгодный для него самого и для читателя прием, то, конечно, можно попытаться убедить его. Но в данном случае никакой намеренности не было, разумеется; просто так выходило, так писалось, полоса такая нашла. Но если бы можно было добраться до подкладки этой полосы, подкладки, может быть, неясной самому писателю, то мы имели бы по крайней мере разъясненное явление, а это вовсе не мало.
В предисловиях к первым двум томам первого издания своих сочинений Успенский рассказывает историю своих писаний. Она очень поучительна и многое объясняет как в этих томах, так и во всей последующей литературной деятельности этого писателя.
«Нравы Растеряевой улицы», занимающие значительную часть первого тома, начали печататься в «Современнике» 1866 года. Но «Современник» был как раз в этом году закрыт, и продолжение «Нравов», приготовленное для этого журнала, автор перенес в «Луч»– сборник, изданный редакцией «Русского слова». Дальше пусть рассказывает сам автор: «При этом все, что имело „связь“ с очерками, напечатанными в „Современнике“, надо было уничтожить, обрезать, выкинуть, для того чтобы „продолжение“ имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им „сделана“ другая обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале „Женский вестник“, так как тогда (1866) почти совершенно не было других литературных журналов. Судите поэтому, что должна была претерпеть „Растеряева улица“ с своими пьяницами, „сапожниками и мастеровщиной“, появляясь в журнале, посвященном женскому развитию, женскому вопросу. При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличнее, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше. Наконец, очень много материала, приготовленного для „Растеряевой улицы“, было разбросано в виде очерков и сценок по всевозможным газетам и листкам».
Примерно то же самое читаем и в предисловии ко второму тому относительно другого, широко задуманного, но разбитого на клочки произведения – «Разорения». Но это только внешняя сторона дела: «обстоятельства чисто личного характера» и неприглядные случайности судьбы. Ими не ограничивается история писания Успенского. Многие «очерки и сценки» из числа тех дребезгов, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли в последующие издания Автор их отверг, презрел, и вот на каком основании: «Все это было продуктом тогдашней литературной бесприютности. Сплоченных литературных кружков, к которым могли бы пристать начинающие писатели, – ничего тогда налицо не было. Все удручало вас и делало одиноким. А между тем общество, вступившее в совершенно новый период жизни, требовало от литературы – и имело на это право – многосложной и внимательной работы. Таким образом, как отсутствие „школы“, так и глубокое внутреннее сознание, что „теперь“ обновляющая жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, делали то, что незначительная способность написать „рассказец“ или „очерк“ ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. „Все это не то!“ – думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, кой-как, появляясь в виде отрывков без начала и конца».
По-видимому, это объяснение отрывочности и оборванности не мирится с приведенными выше из «Власти земли» словами, как бы узаконяющими эту отрывочность в связи с самой темой писаний Успенского. Избрав своим сюжетом мужика, он уверен, что худо ли, хорошо ли, но он делает настоящее дело, то именно, которое особенно нужно обществу, и во многих местах горячо и прочувствованно доказывает это; именно поэтому, думает он, он пишет очерки и отрывки, а не «произведения изящной словесности». В начале своей литературной деятельности он, напротив, сомневался в пользе и надобности того, что он делает, и именно поэтому выходили очерки и отрывки. Нет ничего удивительного в том, что писатель теряется в объяснениях причин, по которым деятельность его приняла те или другие формы Со стороны дело виднее.
Успенский начал писать очень рано{7}, в том почти юношеском возрасте, когда внешние влияния особенно сильно действуют на не окрепшую еще манеру писания и надолго, а иной раз и навсегда, кладут на нее свою печать. Если бы те печальные обстоятельства, о которых рассказывает наш автор в предисловиях, постигли его позже, несколько лет спустя после его выхода на литературное поприще, мы, может быть, имели бы не такого Успенского, не до такой степени отрывочного и незаконченного. Я вовсе не думаю все свалить на внешние условия. Я говорю только, что они сыграли тут важную роль и до известной степени просто принудили Успенского выработать прием разбивания некоторого художественного целого вдребезги. Сначала ему было, вероятно, очень трудно совершать эти операции, но затем они вошли в привычку, которая укреплялась и другими «обстоятельствами чисто личного характера». Время появления Успенского в литературе было вообще необыкновенно тяжелое. С него начинался тот скорбный лист русской литературы, который и до сих пор не завершался ни окончательною смертью, ни окончательным выздоровлением. Правда, и до этого времени литературе случалось выносить многие и многие тяжести, не помешавшие, однако, образованию так называемой «плеяды», группы блестящих талантов сороковых годов, давших длинный ряд цельных художественных произведений. Но как бы ни были мрачны те времена в целом, а позднее наступили времена в некоторых отношениях еще более тяжкие. Литературные труженики сороковых годов никак уже не страдали тем «одиночеством», на которое жалуется Успенский. Это была целая группа, тесно сплоченная общностью интересов, одинаковостью возраста, развития, общественного положения и т. д. Каждый из них опирался на всех остальных и в живом общении с ними находил поддержку в трудные минуты сомнений, колебаний, душевной немощи. Если на людях и смерть красна, так жизнь, хотя бы и очень тяжелая, и подавно. Притом же те блестящие беллетристы, за немногими исключениями, вовсе не были литературными тружениками, работниками в настоящем смысле слова. Тогда мог серьезно приниматься к сведению и, вероятно, к исполнению фантастический по нынешнему времени совет Гоголя переписывать «сочинение» семь-восемь раз с значительными промежутками. Литературная профессия, строго говоря, почти не существовала: занимавшиеся литературой «господа», за некоторыми исключениями, имели достаточно досуга, чтобы, набросав свое произведение, поездить по Европе, послушать лекции в германских университетах, искупаться в волнах Гвадалквивира, а потом, с новым запасом сил и обновленными горизонтами, вернуться к произведению для окончательной его отделки или предварительной переделки. Литература как профессия, со всеми розами и шипами профессии, явилась позже, когда всколыхнувшаяся после Крымской войны Россия выдвинула из себя новые, уже чисто литературные силы. Вторгнулись эти новые силы с большим шумом, с светлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоуверенностью. Но недолго тянулся этот праздник, и к тому времени, когда юноша Успенский окончил свои «Нравы Растеряевой улицы», от праздника оставалось уже разве только похмелье, а там и великий пост приспел. Тяжесть, особенная, специальная тяжесть положения, состояла в том, что были выдвинуты новые силы, а точки приложения для них были убраны прочь; был накрыт стол, блестевший белизною скатерти и сверканием новой посуды, был возбужден аппетит, а обед-то вдруг куда-то совсем в другое место унесли. Я знаю, что не о едином хлебе живет человек, и не о хлебе говорю. Однако и хлеб – дело не последнее, если его надо зарабатывать и нет возможности не то что семь раз переписать повесть, а даже иной раз просто перечитать написанное или же нет возможности пристроить задуманную вещь, и приходится делать те вивисекции, которые производил над своими литературными чадами Успенский. Притом же хлеб, в самом прямом и жестком смысле этого страшного слова, в этом случае тесным образом связывался с духовным хлебом, с идеей Хлеб, заработанный литературным служением обществу, был именно новой и заманчивой идеей. И не в том только было дело, что тот или другой даровитый юноша голодал на литературном поприще. Нет, в нем была разбужена духовная жажда, и, казалось, все обещало удовлетворение этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная к губам и дразнящая своею близостью, вдруг и прошла мимо. Такое мучительное ощущение едва ли было знакомо писателям сороковых годов, которые были для этого слишком равномерно и беспросветно отягощены. Например, рассказываемый Успенским трагикомический (я не могу назвать его просто комическим, об этом скажу еще подробнее) эпизод с «Женским вестником» никаким образом не мог иметь места в сороковых годах, потому что и самый «Женский вестник»{8} был тогда немыслим. Специальный орган «женского движения» или «женского вопроса», каким был по задаче этот журнал, сам был продуктом и вместе выражением пробуждения новых сил и розовых надежд. Он не удовлетворял, правда, своему назначению и был вообще плох, но это уже другое дело. Может быть, и плох-то он был потому, что явился, когда розовым мечтаниям «женского движения» пришел конец. Но капризною волею судьбы этот журнал обращается вместе с тем в единственное пристанище для начинающего талантливого юноши, который, однако, для входа в это пристанище должен «умыть и приодеть» своих немытых героев. Из всего этого выходит целая сеть недоразумений, неудобств, основной элемент которой может быть выражен в трех-четырех словах: потребность разбужена, а средства для удовлетворения ее сокращены или совсем удалены. На попытки приспособления к такому непереносному положению вещей и ушла значительная часть деятельности Успенского в ту молодую пору, когда его талант еще складывался, еще не отлился в прочные, неподатливые формы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Г. И. Успенский как писатель и человек"
Книги похожие на "Г. И. Успенский как писатель и человек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Михайловский - Г. И. Успенский как писатель и человек"
Отзывы читателей о книге "Г. И. Успенский как писатель и человек", комментарии и мнения людей о произведении.