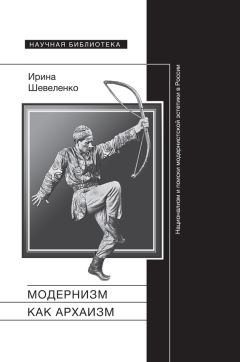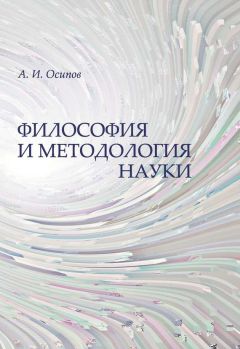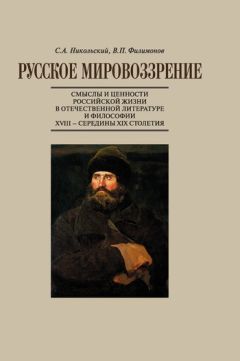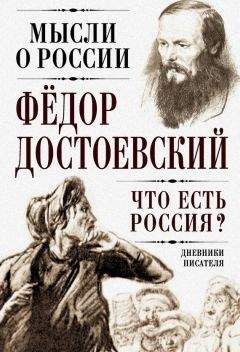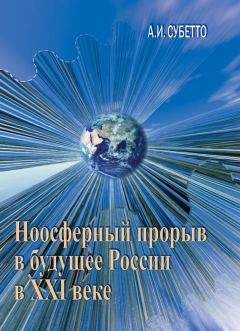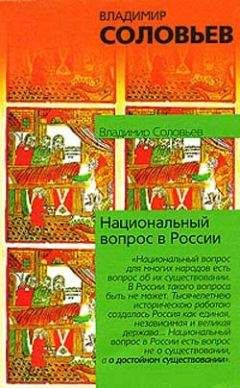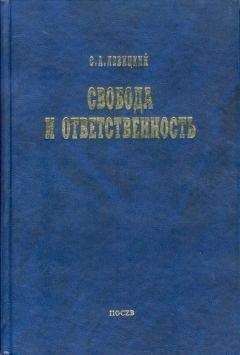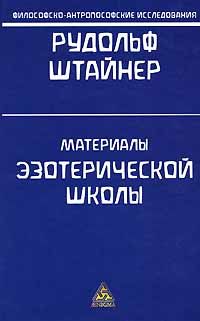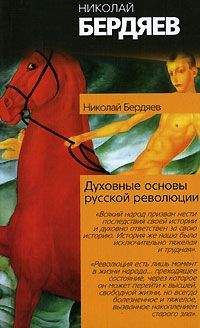Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия
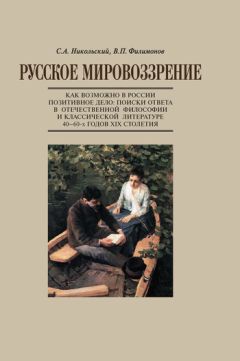
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Описание и краткое содержание "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия" читать бесплатно онлайн.
Авторы продолжают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца.
В рассматриваемый период существенно меняется характер формулируемых русской литературой и значимых для национального мировоззрения смыслов и ценностей. Так, если в период от конца XVIII до 40-х годов XIX столетия в русском мировоззрении проявляются и фиксируются преимущественно глобально-универсалистские черты, то в период 40–60-х годов внимание преимущественно уделяется характеристикам, проявляющимся в конкретно-практических отношениях. Так, например, существенной ориентацией классической литературной прозы становится поиск ответа на вопрос о возможности в России позитивного дела, то есть не только об идеологе, но и о герое-деятеле. Тема сознания русского человека как личности становится главным предметом отечественной литературы и философии, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.
Завершается глава о посещении восемнадцатого века описанием того, каково с позиций этого века может быть отношение к затеваемому революционному делу и даже некоторого исторического суда над ним. Паклин просит Фимушку погадать, но она, начав, вдруг бросила карты и без них определила, кто есть кто из навестивших их гостей и какова будет их дальнейшая судьба. При этом о Маркелове она сказала, что он «горячий, погубительный человек», о Соломине – «прохладный, постоянный», о Паклине – «вертопрах», а что касается центрального героя романа – Нежданова, то его она назвала человеком «жалким». Согласимся, что оценки оказались точны и полностью подтвердились. Финал же этому пророчеству кладет полоумная карлица, рьяная защитница хозяев, кричащая вслед уходящим гостям: «Дураки, дураки!» Не поняли, дескать, они восемнадцатого века и тем самым века нынешнего, в коем многое присутствует из старых времен. И обе мысли, надо признать, – правда.
Посетив век восемнадцатый, начинающие революционеры отправляются в век двадцатый, который для Паклина олицетворяется купцом Голушкиным. Знакомство с этим персонажем особенно интересно потому, что герои из торговой буржуазии в романах Тургенева довольно редки, и его мнение об этой еще одной «революционной надежде» народников вдвойне интересно. Итак, Голушкин происходил из среды староверов, но с их традиционными трудовыми качествами ничего общего не имел. Это, напротив, был тип русского эпикурейца, то есть он много и без разбора ел, отчаянно пил, а пуще всего бахвалился. «Жажда популярности была его главной страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету! То Суворов или Потемкин – а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию (прежде он говорил просто «в позицию», но потом его научили) – свела его с нигилистами: он высказывал самые крайние мнения, трунил над собственным староверством, ел в пост скоромное, играл в карты, а шампанское пил, как воду»[146].
Знакомясь с посетившими его «передовыми молодыми людьми», он не преминул сообщить, что даже губернатор перед ним заискивает. Меж тем, будучи взят под стражу одновременно с Маркеловым, он, в отличие от отставного офицера, сразу стал «валяться в ногах». Столь же «надежен» и рекомендуемый им для общего дела «прозелит» – прилизанный чахоточный человечек с кувшинным рыльцем, оказавшийся голушкинским приказчиком Васей.
В довольно бессвязной (из-за количества выпитого) застольной беседе гостей и хозяина неожиданно возник довольно существенный для тактики народнического движения вопрос о степени решительности планируемых действий. При этом даже обычно молчавший Соломин считает важным заявить, что их акции должны иметь постепенный характер, но если раньше постепенные меры вводились сверху, то теперь настает время инициировать их снизу. Мысль эта поддержки не нашла, и на нее последовало замечание Маркелова, что нам постепеновцев не нужно. Голушкин тут же поддержал его: «Не нужно, к черту! Не нужно… надо разом, разом!»[147]
Этим визитом и заканчивается «пропащий», как выразился Соломин, день будущих «хожденцев» в народ. Прощаясь и направляясь в «оазис» к Фомушке и Фимушке, Паклин итожит: «И там чепуха – и здесь чепуха… Только та чепуха восемнадцатого века ближе к русской сути, чем этот двадцатый век»[148]. Этим финалом и завершается знакомство читателя с той общественной средой, в которой завтрашние революционеры намерены возбуждать антиправительственные настроения и даже антимонархические действия.
К этой теме, однако, Тургенев счел необходимым добавить некоторые собственные мысли о русском народе, поместив их в финальный, подводящий итог всем событиям диалог Паклина и Машуриной {14}. «…Мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это все – леность, вялость, недомыслие!»[149]
Все это верно. Но есть ли этому альтернатива? Есть. И она, согласно Тургеневу, в Соломине, который из описанной в романе народовольческой истории сумел вывернуться и построил в Перми на артельных началах собственный завод. И верно о нем говорит Паклин: «Такие, как он – они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они – настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это – не герои; …теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен – как день, и здоров – как рыба… Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием – так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, – и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат и все тело повинуется как следует… значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом – и без фразы; образованный – и из народа; простой – и себе на уме… Какого вам еще надо? …Знайте, что настоящая, исконная наша дорога – там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!»[150]
Итак, в последнем, шестом романе Тургенев, похоже, все-таки дает развернутый содержательный ответ на сформулированные в первых романах вопросы: «как возможно позитивное преобразование российской действительности?» и «когда в России появятся настоящие люди?» Имя этому ответу – Соломин[151].
Однако, прежде чем приступить к рассмотрению этого персонажа и связанных с ним идей, обратимся к редкому и потому вдвойне ценному писательскому признанию, в котором содержится формулировка романа в целом: «Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников – что, во-первых, несправедливо, – а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо – и сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу – стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных – и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и не жизненно (выделено нами. – С.Н., В.Ф.), что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось – не мне судить; но вот моя мысль… Во всяком случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне – если не к их целям, то к их личностям. И только таким образом может роман, написанный для них и о них, принести им пользу.
Я предвижу, что на меня посыплются упреки из обоих лагерей; но ведь то же самое случилось и с «Отцами и детьми»; а между тем изо всего моего литературного прошлого я имею причины быть довольным именно этой повестью…»[152] Действительно, упреки посыпались и справа, и слева, и от правительственных кругов. И относились они не только к видению писателем стоящих перед страной проблем или к изображению народников, но и к позитивному персонажу романа – Соломину.
Из всех героев шести романов Тургенева считать именно Соломина несомненно позитивным персонажем, с которым автор связывал свои представления о будущем России, – общепризнанная среди исследователей точка зрения. Некоторые даже, как, например. Т.Г. Масарик, полагают, что этим образом писатель представил как бы «второе, исправленное, издание Базарова»[153]. Такое суждение нам не кажется верным, поскольку оно предполагает, что следующим персонажем автор как бы отвергал или – пусть даже в гегелевском смысле – «снимал» предыдущий. Более правильным мы считаем следующее представление. Посредством каждого созданного образа, тем более претендующего на позитивность, Тургенев старался рассмотреть систему всех общественных связей, которые с этим образом сопрягались. Этим путем он, во-первых, намеревался показать все многообразие общественной реальности и, во-вторых, на этом фоне позволить читателю решать вопрос о жизненности или нежизненности тех смыслов и ценностей, которые этот образ нес в себе. Так, возвращаясь к личности Базарова, мы позволим себе еще раз повторить одну из наших мыслей о том, что в деловом отношении Базаров никакой не нигилист, а, напротив, трудоголик и профессионал, и его трагедия как раз и состоит в том, что в системе российской практической жизни для него нет места. Система его отвергает, и отвергает именно своим феодальным, примитивным, с позиций капитализма – варварским, антикультурным содержанием. Согласимся, что в деловых проявлениях Соломину «улучшать» или «исправлять» Базарова нечего. Базарову, в отличие от Соломина, просто не хватило жизненного времени, чтобы стать «строителем», каким изображен позитивный герой «Нови». И потому Соломина в его практической деятельности можно считать базаровским содержательным продолжением.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Книги похожие на "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Отзывы читателей о книге "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия", комментарии и мнения людей о произведении.