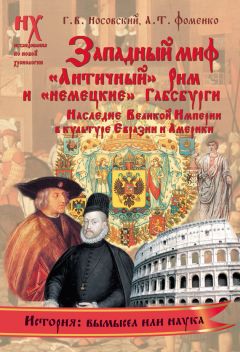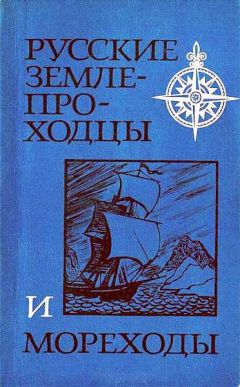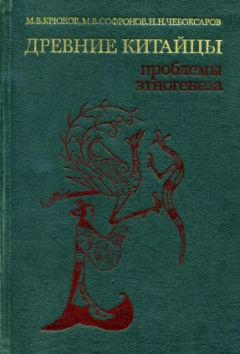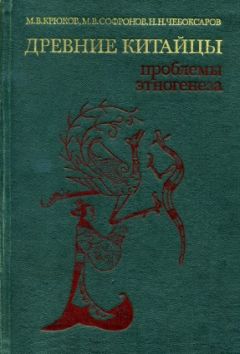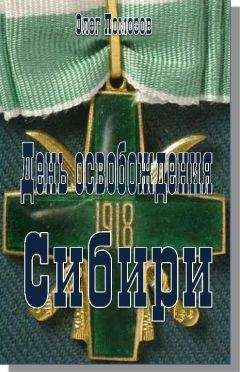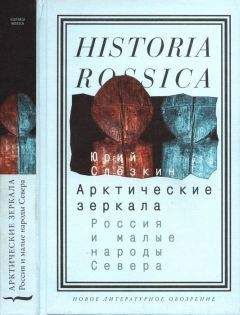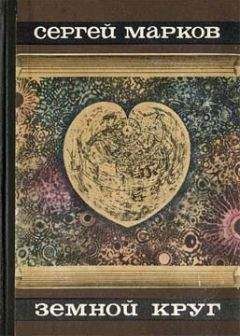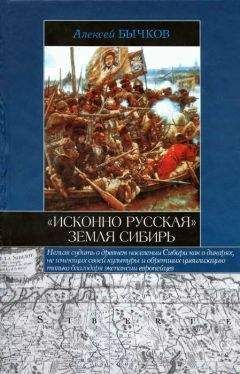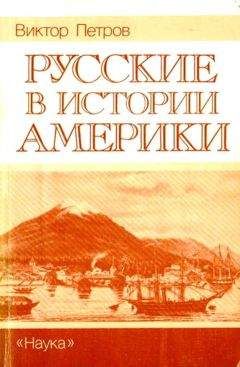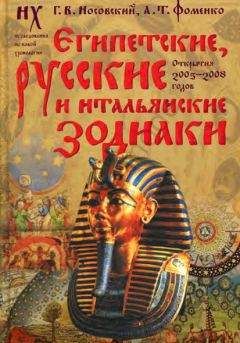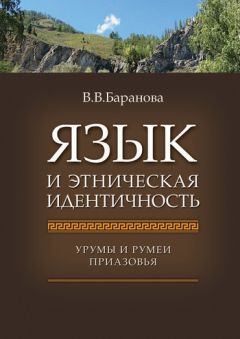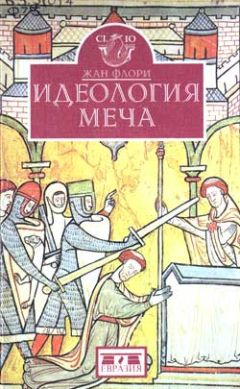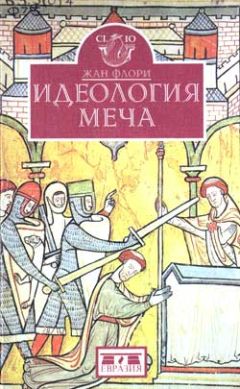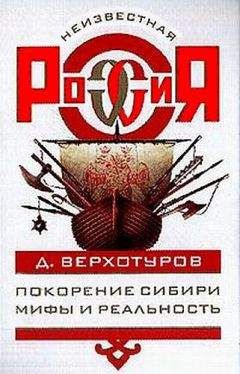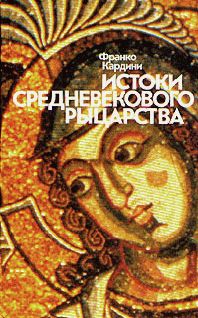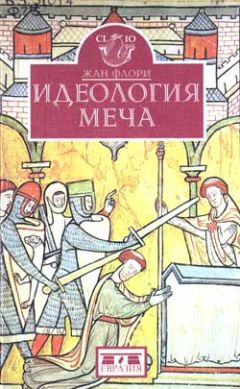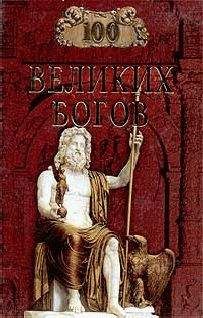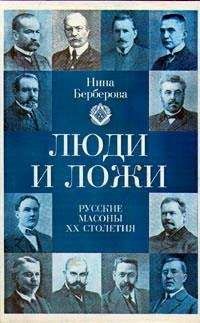Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания
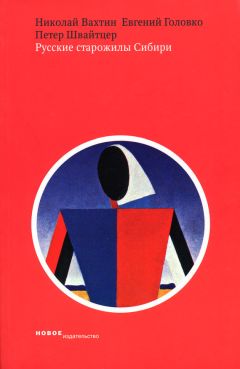
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания"
Описание и краткое содержание "Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания" читать бесплатно онлайн.
Старожилы Сибири и Дальнего Востока, потомки русских переселенцев XVIII—XIX веков, не причисляют себя ни к русским, ни «коренным народам Севера». Они создали свою неповторимую культуру, и каждая старожильческая группа считает себя самостоятельным народом. Детальный анализ этнического самосознания старожилов, представленный в книге антропологов Николая Вахтина, Евгения Головко и Петера Швайтцера, позволяет приблизиться к пониманию сути этничности, ее компонентов и способов конструирования. Книга основана на интервью с современными сибирскими старожилами, записанных авторами в поселках на реках Колыме, Индигирке и Анадыре, а также на исторических, в том числе архивных, материалах. Для сравнения авторы привлекают данные о камчадалах и креолах Русской Америки, что позволяет показать проблему самосознания старожилов в более широком контексте. Книга адресована всем, кто интересуется проблемами формирования, изменения и сохранения этнического самосознания.
Не очень типичная внешность, совсем не редко встречавшаяся и среди ожогинцев (якутское влияние), и русскоустьинцев (следствие, по всей вероятности, смешения на ранней стадии прежде всего с юкагирами), никогда не мешала властям числить и тех и других русскими. Трудно с уверенностью сказать, что побудило власти считать индигирщиков русскими, а, скажем, не юкагирами; естественно предположить, что это произошло прежде всего благодаря их языку и сохраненной православной вере, а также тому, что принято называть «повседневными практиками». Все исследователи, оказывавшиеся в разное время в Русском Устье, описывали местных жителей именно как русских, неизменно выражая восторг по поводу некоторых специфических черт русской культуры (фольклор, быт), а также диалектных особенностей языка, все еще сохраняющихся на Индигирке и уже утраченных в Европейской части России.
При этом трудно сказать, совпадало ли бюрократическое определение индигирщиков как русских с их самоощущением. Вероятно, как это обычно бывает, особенно с общностями, живущими достаточно изолированно, «настоящее» самоназвание привязано к месту проживания: индигирщики, т. е. живущие на Индигирке, или еще более очевидное – русскоустьинцы, в разговорном языке – русскоустúнцы с ударением на предпоследнем слоге (ср. также самоназвание ожогинцев – верховские: живущие в верховьях Индигирки). Чувство принадлежности к общности «более высокого порядка» (например, русские) в подобных случаях отходит на задний план, если не вовсе утрачивается (чаще оно не возникает совсем). Другое «настоящее» самоназвание индигирских жителей, отмеченное в литературе, досельные («прежние, прошлые, давнишние, старинные» – В.И. Даль) не привязано к месту, а, скорее, демонстрирует диахроническую перспективу. Не исключено, что государство, поместив индигирских жителей в главную клеточку своей «этнической таблицы» с названием «русские», просто не позволяло им забыть об их «русскости». Проблема осложняется тем, что самоощущение русскоустьинцев, как и их самоназвание, могло на протяжении двух с половиной веков их жизни на севере Якутии несколько раз измениться.
Сами местные жители, числящиеся русскими, впрочем, в ХХ столетии отделяли себя от всех остальных русских, приезжих, называя их «тамошними» (Биркенгоф 1972: 22—23), и поддерживали с инородцами (для индигирщиков инородцами были юкагиры, эвены и эвенки, но не якуты и не чукчи)[43] добрососедские отношения: «О ламутах и юкагирах [индигирщики] говорили: „Народ старательный“, „Если у нас голодно, привезут без зову мяса оленьего и всего, что у них есть“. Уверяют, что и сами относятся к оленеводу „как к отцу родному“, „Рыбку им припасаем, цаёк (чаёк), табацёк (табачок)“; „Сами не покурим, ламуту оставим“» (там же, 23).
А.Л. Биркенгоф полагает такое отношение вполне искренним, однако допускает, что в нем есть отголоски тех времен (XVIII век), когда, объезжая свой округ, чиновник («комиссар») проверял, между прочим, исполнение приказа Иркутского наместничества об отношении к местным «легкомысленным народам»: «Чтобы оных народов ни под каким видом во огорчение отнюдь не приводить и обходиться с ними с ласковостью, подражая проповеди апостольской». Аналогичные приказы якобы в защиту «легкомысленных народов» от произвола известны и для XVII века (там же).[44]
Для нас же в данном случае важно отметить тот факт, что упомянутые выше распоряжения властей, которые адресовались прежде всего приказным и служилым людям, а шире – всем русским, принимались индигирскими жителями на свой счет, т. е. индигирщики в то время считали себя русскими.[45]
Советская власть не нарушила единообразия нарисованной выше картины. В 1930-е годы все бывшие мещане дружно превратились в колхозников. Что касается «русскости», то она была официально подтверждена: во всех документах русскоустьинцы (и верховские) фигурировали как русские. С этим, правда, не были согласны «тамошние», нахлынувшие в регион позже, особенно в 1950-е годы. Они, разумеется, не в силах были отменить официальную классификацию, но на бытовом уровне делали все, что было в их силах, чтобы отмежеваться от странных «русских» с явно выраженными монголоидными чертами лица, со смуглой кожей, которые и говорить-то по-русски, с их точки зрения, толком не умели. Именно в это время закрепился появившийся еще в 1930–1940-е годы неофициальный, но очень широко распространившийся термин местнорусские (в устной речи часто говорили просто местные). В паспорта он, кажется, все-таки не попал, но проник даже в такой серьезный документ, как трудовая книжка колхозника, не говоря уж о менее важных документах. Один из наших информантов вспомнил эпизод, как он в 1964 году в возрасте 16 лет переехал из Русского Устья в районный центр Чокурдах, чтобы закончить последние два класса школы, и пошел записываться в школьную библиотеку. Библиотекарь (приезжая русская, жена офицера, которых в то время появилось в районе очень много) заполняла формуляр читателя и, дойдя до соответствующей графы, спросила его о национальности. Он ответил «русский». Она написала «русский». Потом спросила, откуда приехал. Он ответил – из Русского Устья. Та презрительно усмехнулась и исправила запись в формуляре на «м/русский», т. е. «местнорусский». Это полуофициальное, с оттенком презрения название закрепилось за русскоустьинцами и верховскими, как за теми, кто там живет, так и за теми, кто там хотя бы родился:
Даже у нас в карточках медицинских [в школе], я хорошо помню, там врачи карточки заполняли, и там «м», черточка, русские. М/русские – это, оказывается, местнорусские (ж 70 РУ).
В свою очередь, очевидно, под давлением приезжих, составляющих большинство улусного центра Чокурдах и примерно половину населения всего Аллаиховского улуса, и сами бывшие «индигирщики» (это самоназвание, так же как «досельные», практически больше не употребляется и воспринимается как архаичное) стали называть себя и писаться во всех местных документах «местнорусскими». Ответ на задаваемый во время интервью вопрос «вы русские?» всегда сопровождается многочисленными оговорками и комментариями:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Это описание (Bogoraz 1904—1909) отражало, видимо, действительно традиционное, т. е. еще не подвергнувшееся значительному влиянию европейцев, состояние чукотской культуры. Ср. следующее мнение одного из исследователей побережья Арктики, работавшего там в 1909 году: «Сравнивая описания старинных русских путешественников с нашими наблюдениями, мы невольно приходили к заключению, что форма их (чукчей. – Авт.) быта уже лет полтораста тому назад существенно не отличалась от настоящей и что чукчи настоящего времени, при всех изменениях материальной культуры, очень мало отличаются от чукчей времен путешествия Биллингса» (Толмачев 1911: 99–100).
2
Это слово (так же, как индигирщики) представляет собой традиционное самоназвание, в настоящее время вышедшее из употребления. Однако, поскольку эти названия постоянно встречаются в исторической и этнографической литературе, посвящённой данному региону, мы сочли возможным использовать их на протяжении всей книги без специальных помет.
3
О существующих разногласиях по поводу даты основания Русского Устья см. Главу 1.
4
В литературе на русском языке, как правило, отделяют старожильческие группы от смешанного населения; к последнему, в частности, относят группы, сменившие русский язык на другой, а также русифицированные коренные группы, при этом оба случая характеризуются высоким процентом смешанных браков.
5
В настоящее время практически не существует: в конце 1990-х годов там проживало постоянно лишь две семьи.
6
Из основных источников следует назвать работы: Миллер 1999 [1750]; Буцинский 1889; Головачев 1902а; Огородников 1922; Берг 1927; Долгих 1960; Гурвич 1966; а также многотомную «Историю Сибири», особенно второй том (1968); из более новых работ см.: Slezkine 1994a.
7
Противоположную точку зрения высказывает В.А. Александров, который утверждает, что переселенцы, едва только они устраивались на новом месте, тут же выписывали свои семьи «с материка» – однако это если и верно, то лишь для Западной Сибири (Александров 1973: 24).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания"
Книги похожие на "Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания"
Отзывы читателей о книге "Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания", комментарии и мнения людей о произведении.