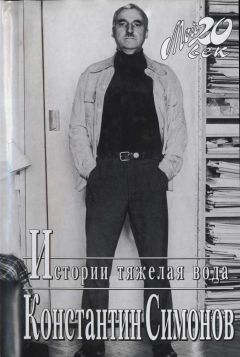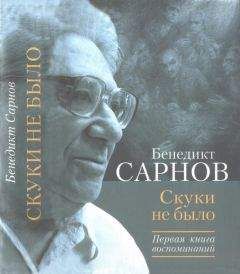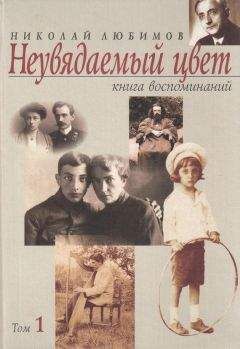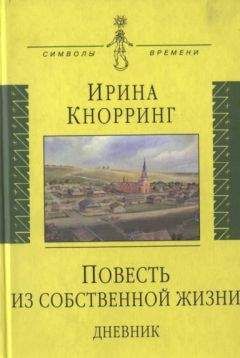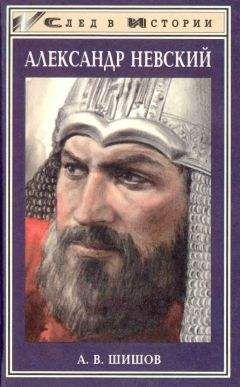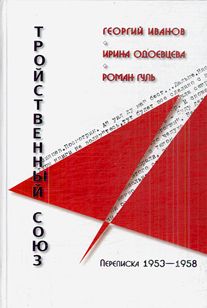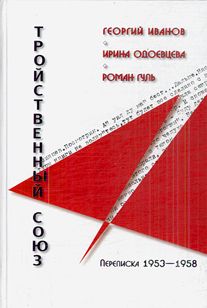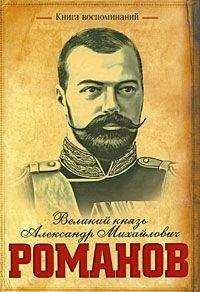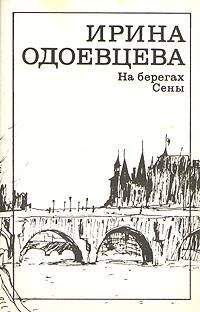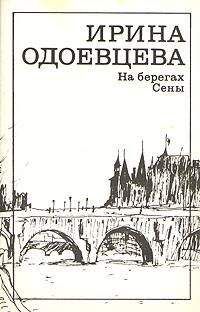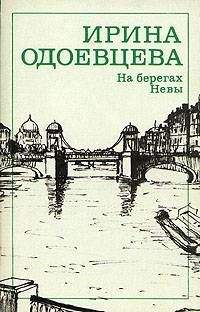Ирина Одоевцева - На берегах Невы. На берегах Сены

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "На берегах Невы. На берегах Сены"
Описание и краткое содержание "На берегах Невы. На берегах Сены" читать бесплатно онлайн.
Ирина Одоевцева.
Любимая ученица Николая Гумилева. Яркий человек, поэтесса и писательница. Но прежде всего – одна из лучших мемуаристок первой волны русской эмиграции, истинная свидетельница эпохи, под легким и острым пером которой буквально оживают великие поэты и прозаики Серебряного века.
В книгу вошла прославленная мемуарная дилогия Ирины Одоевцевой.
«На берегах Невы» – первая книга легендарных воспоминаний, посвященная жизни литературного, музыкального и художественного Петрограда в страшный, переломный, трагический период Октябрьского переворота и послереволюционных лет.
«На берегах Сены» – вторая книга воспоминаний, в которой писательница рассказывает о жизни «русского Парижа», о встречах с И. Буниным, И. Северяниным, К. Бальмонтом, З. Гиппиус, Д. Мережковским и со многими другими в годы, когда на берегах Сены писались золотые страницы истории искусства Русского зарубежья.
Меня всегда удивляло, что он многим казался комичным, «карикатурой на поэта и на самого себя». Но вот я впервые смотрю на него и вижу его таким, каким он был на самом деле.
Он не маленький, а среднего роста. Голова его не производит впечатления «непомерно большой». Правда, он преувеличенно закидывает ее назад, отчего на его шее еще резче обозначается адамово яблоко. У него пышные, слегка вьющиеся волосы, поднимающиеся над высоким лбом. Плешь, прячущуюся среди них, никак нельзя назвать лысиной. Конечно, он худой. Но кто же из нас в те дни не был худ? Адамович, как-то встретив меня на Морской, сказал:
– Издали на вас смотреть страшно. Кажется, ветер подует и вы сломаетесь пополам.
Упитанными и гладкими среди поэтов были только Лозинский и Оцуп, сохранившие свой «буржуйский» вид.
Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на нее внимания. Будто она не играла решающей роли во впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней.
Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня сияющими «ангельскими» глазами. И мне вдруг показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его сознания. И дно поэзии.
Я скромно сажусь на свободный стул между Оцупом и Лозинским.
С осени 1920 года я уже настоящий поэт, член Дома литераторов. И что много почетнее и важнее – равноправный член недавно восстановленного Цеха поэтов. Но меня все еще продолжают называть «Одоевцева – ученица Гумилева», и я продолжаю чувствовать и вести себя по-ученически. Вот и сейчас я сознаю свою неуместность в этом «высоком обществе» за одним столом с Мандельштамом. С «самим Мандельштамом».
Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина. Он радушно угощает нас настоящим, а не морковным чаем с сахарным песком внакладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом.
Виновник торжества, Мандельштам, с нескрываемым наслаждением пьет горячий сладкий чай, закусывая его этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песку.
Оцуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама. И, не выдержав, спрашивает:
– Как вы можете, Осип Эмильевич? Разве вкусно?
Мандельштам кивает, не переставая жевать:
– Очень вкусно. Очень.
– Еще бы не вкусно, – любезно подтверждает Лозинский, – знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят.
– Только, – с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, – вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир, для пикантности и аромата.
Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха «самоедским лакомством».
Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах – все ближайшие «соратники» Гумилева – Лозинский, Оцуп, Георгий Иванов (Адамовича в то время не было в Петербурге).
Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера – первое чтение «Тристии» в Петербурге, как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы.
– Начинай, Осип!
И Мандельштам начинает:
На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод…
Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет? —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет…
Слушая его, глядя на его закинутое, мучительно-вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх.
Мандельштам, кончив, широко открывает глаза, отряхивается, как только что выкупавшийся в пыли воробей, и спрашивает взволнованной скороговоркой:
– Ну как? Скверно? Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал.
Пауза. Затем Гумилев веско заявляет – не говорит, а именно заявляет:
– Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию. – И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают русскую поэзию.
За Гумилевым – такова уж сила цеховой дисциплины – все по очереди выражают свое восхищение «с придаточными предложениями», объясняющими восхищение.
Но я просто восхищена, я просто в восторге, я не нахожу никаких «придаточных предложений». И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, «акмеистический» вопрос:
– Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи?
Мандельштам, только что превознесенный самим синдиком Цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно:
– Оттого, что Терпандр действительно родился, жил на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира – не знаю. И не интересуюсь этим вовсе.
Но мой вопрос, по-видимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании, и он быстро поворачивается к Лозинскому:
– Михаил Леонидович, а может быть, правда, лучше вместо Терпандра Меркурий? А?
Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям.
– Вздор! Это стихотворение – редкий пример правильности формулы Банвиля: «то, что совершенно, и не требует изменений». Ничего не меняй. И читай еще! Еще!
Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах:
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела…
Голос Мандельштама течет, как эта «золотистого меда струя», и вот уже я, забыв, что я «навсегда опозорена», вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз.
Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь.
Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама.
Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает.
Ну а в комнате белой как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,
Не Елена, другая, как долго она вышивала…
Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении:
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей.
Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы, где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана.
Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее.
– Кури, Осип, кури! Ты заслужил, и еще как заслужил!
И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова:
– Да. И это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя:
Ну а в комнате белой как прялка стоит тишина.
По-моему, будет лучше:
Ну а в комнате белой как палка стоит тишина.
Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, разражается неистовым приступом кашля-хохота:
– Как палка! Нет, не могу! Как палка!
Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама:
– Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?
Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу – и даже без всякого повода.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На берегах Невы. На берегах Сены"
Книги похожие на "На берегах Невы. На берегах Сены" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Одоевцева - На берегах Невы. На берегах Сены"
Отзывы читателей о книге "На берегах Невы. На берегах Сены", комментарии и мнения людей о произведении.