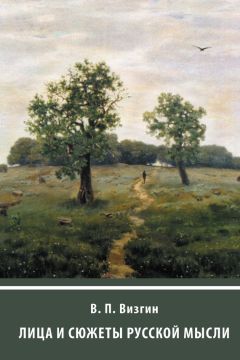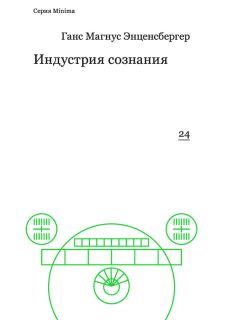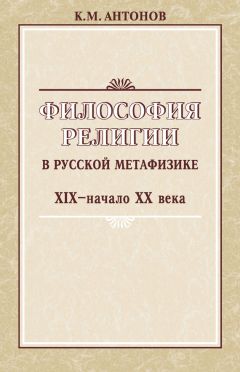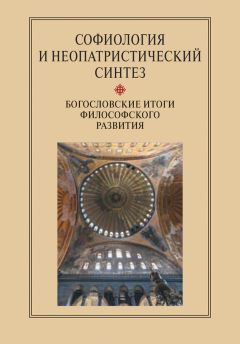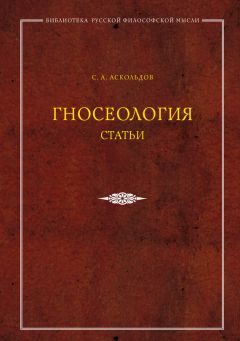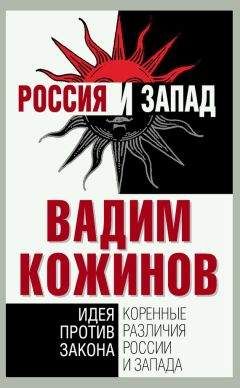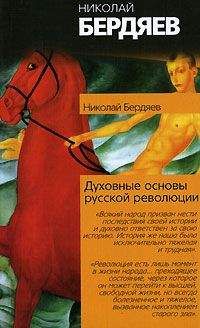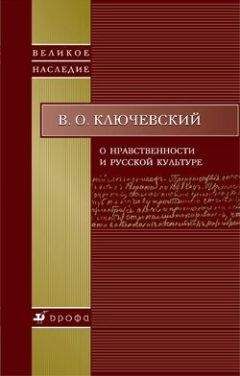Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма
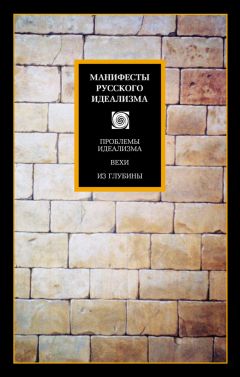
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Манифесты русского идеализма"
Описание и краткое содержание "Манифесты русского идеализма" читать бесплатно онлайн.
Настоящий том включает в себя три легендарных сборника, написанных в разные годы крупнейшими русскими философами и мыслителями XX века: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918).
Несмотря на столетие, отделяющее нас от времени написания и издания этих сборников, они ничуть не утратили своей актуальной значимости, и сегодня по-прежнему читаются с неослабевающим и напряженным вниманием.
Под одной обложкой все три сборника печатаются впервые.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской мысли, проблемами русской интеллигенции, истоками и историческим смыслом русской революции.
С жизнью подобных добродетельных людей, в которых нетрудно подметить копии с наших «ташкентцев»14* и людей «среды умеренности и аккуратности»15* (Заратустра резюмирует их добродетели словами: трусость и посредственность), не имеет ничего общего тот, кто любит дальнее. Любовь к дальнему, стремление воплотить это «дальнее» в жизнь имеет своим непременным условием разрыв с ближним. Этика любви к дальнему, в виду того, что всякое «дальнее» для своего осуществления, для своего «приближения» к реальной жизни требует времени и может произойти только в будущем, есть этика прогресса, и в этом смысле моральное миросозерцание Ницше есть типичное миросозерцание прогрессиста, конечно, не в политическом, а в формально-социологическом значении этого термина. Всякое же стремление к прогрессу основано на отрицании настоящего положения вещей и на полной нравственной отчужденности от него. В чудесном художественном противопоставлении отношения к «стране отцов» и «стране детей» Ницше рисует моральное положение по отношению к родине человека, воспринявшего начала этики «любви к дальнему».
«Чужды и презренны мне люди настоящего, к которым еще так недавно влекло меня мое сердце; изгнан я из страны отцов и матерей моих.
Так осталось мне любить лишь страну детей моих, неоткрытую, в дальнем море; к ней направляю я мои паруса, ее ищу и ищу без конца.
Моими детьми хочу я загладить, что я – дитя моих отцов; всем будущим искуплю я эту современность»16*.
Люди настоящего в глазах Заратустры только материал для будущего, камни для великого строящегося здания. «Я брожу между людьми, – говорит он, – как между клочками будущего: того будущего, которое я вижу. И нет у меня другой мечты и мысли, как смечтать и свести воедино то, что есть обломок, загадка и слепой случай… Нынешнее и прошедшее на земле – ах, друзья мои! они невыносимы для меня; и я не мог бы жить если бы я не был прорицателем того, что некогда должно прийти!»17*
Итак, любовь к будущему, дальнему человечеству неразрывно связана с ненавистью и презрением к человечеству ближнему, современному; любовь и презрение – две стороны одного и того же чувства, «и что знают, – восклицает Заратустра – о любви те, кому не суждено было презирать того, что они любят!»18* В первой же проповеди своей к людям Заратустра учил их «великому презрению», как источнику нравственного обновления человечества: высшее, что люди могут пережить, есть «час великого презрения, когда им станет отвратительным и их счастие, и их разум, и их добродетель», когда во всем этом они увидят лишь «нищету и грязь и жалкое довольство»19*.
Но презрение к окружающей жизни и к современным, будничным ее интересам, к ее «счастию и разуму и добродетели» должно быть лишь первым этапом в душевном развитии любящего «дальнее», очищением его души для полного торжества в ней ее любви. Горе тем, кто остановится на нем! Сам проникнутый некогда идеями пессимизма, чувствуя свою духовную близость с глубокими нравственными импульсами, лежащими в основе этого учения, Ницше-Заратустра с негодованием обрушивается на метафизиков-пессимистов, Hinterweltler, как он их называет, людей, которые видят только «зад земли»20*. «Им встречается больной, или старик, или труп, и они сейчас же говорят: жизнь опровергнута! Но только они сами опровергнуты и их взгляд, видящий только один лик бытия!»21* И хотя его протестующий крик против пессимизма, для которого «весь мир есть грязное чудовище», заканчивается грустным признанием: «о мои братья, много мудрости в учении, что в мире много грязи!», но он нашел и выход из тяжких пут этого учения: «Само отвращение создает крылья и силы, чующие свежие источники!»22* Творческая воля, стремление изменить настоящее и приблизить к нему «будущее и дальнее» – вот к чему должно вести отвращение к современности. «Воля освобождает: ибо воля есть творчество: так учу я. И только для творчества должны вы учиться!.. Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!»23*
Итак, любовь к дальнему есть любовь творческая; отчуждение от «ближнего» и близость к «дальнему» делает необходимым стремление воплотить «дальнее» в жизнь, преобразив последнюю в том направлении, в котором она приближается к «дальнему». Здесь мы также замечаем весьма характерное различие между «любовью к ближнему» и «любовью к дальнему». Первая (как и всякая любовь) также может и должна быть любовью деятельной; но эта деятельность, сводящаяся к проявлению инстинкта сострадания к людям лишена того элемента творчества, того неуклонного и систематического разрушения старого и созидания нового, которым отличается «любовь к дальнему». Не заботясь о принципах и складе жизни, «любовь к ближнему» (в том специфическом значении, в котором мы ее здесь понимаем) занята непосредственным уничтожением и смягчением каждого из текущих проявлений зла, тогда как «любовь к дальнему», наоборот, ставит своей задачей целесообразное видоизменение самых принципов жизни, творческую работу во имя определенного «дальнего». Еще резче обнаруживается этот контраст при рассмотрении тех отношений к окружающим людям, в которые выливаются активные проявления обоих рассматриваемых моральных чувств. Деятельность любви к ближнему выражается прежде всего в миролюбивом, дружественном, благожелательном отношении ко всем людям; творческая деятельность любви к дальнему необходимо принимает форму борьбы с людьми. С точки зрения первой моральным идеалом являются миролюбие, кротость, стремление уступать ближнему и ради его желаний подавлять свои собственные; с точки зрения второй такая покорность и уступчивость заслуживают сильнейшего морального осуждения, в качестве поведения, которое, как говорит Заратустра, заставляет «дальних расплачиваться за любовь к ближнему». Любовь к дальнему требует настойчивости в проведении своих стремлений наперекор всем препятствиям; ее идеал – энергичная, непримиримая борьба с окружающими «ближними» во имя расчищения пути для торжества «дальнего». Таков смысл известных проповедей Заратустры «о войне».
«Я учу вас не труду, я учу вас борьбе. Я учу вас не миру, а победе. Вашим трудом да будет борьба, вашим миром да будет победа…
Война и мужество сделали больше великих вещей, чем любовь к ближнему. Не ваше сострадание, ваша храбрость спасала доселе несчастных!»[85]
Творческая борьба, творчество в форме борьбы – такова деятельность, такова жизнь человека, возлюбившего «дальнее». Вдохновенные проповеди Заратустры черта за чертой вырисовывают нам духовный облик его героя – творца «дальнего», борца за «дальнее». В этом отношении моральное учение Заратустры есть нравственный кодекс жизни этого героя, впервые написанное евангелие для людей творчества и борьбы.
Присмотримся же к основным чертам нравственного образа служителя «дальнего» – борца и творца.
Психологическим коррелатом любви к ближнему является душевная мягкость; психологическим коррелатом любви к дальнему – твердость. Твердость духа, как необходимое условие общественно-морального творчества и борьбы, есть основной постулат этики любви к дальнему. «Все творцы тверды!» восклицает Заратустра25*. Один из «высших людей», которых приютил у себя Заратустра и которым он вернул их утраченную в борьбе за «дальнее» бодрость, в своей приветственной речи говорит ему: «На земле, о Заратустра, не растет ничего более отрадного, нежели высокая сильная воля: это – ее прекраснейшее растение; целая местность кругом питается соками одного подобного дерева»26*. Еще красноречивее учит твердости сам Заратустра в своих проповедях «о старых и новых скрижалях».
«Зачем ты так тверд? говорил однажды алмазу кухонный уголь. Разве мы не близкие родственники?
Зачем вы так мягки? О братья мои, так спрашиваю вас я: разве вы – не мои братья?
Зачем вы так мягки, так размягчающи и уступчивы? Зачем так много отречения, отрекательства в ваших сердцах? Так мало рокового в вашем взгляде?
И если вы не хотите быть роковыми и неумолимыми: как можете вы со мною – победить?
И если ваша твердость не хочет блестеть и дробить и резать: как можете вы со мною – творить?
Творцы всегда тверды. И блаженством должно вам казаться класть вашу руку на тысячелетия, как на мягкий воск…
Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: станьте твердыми!»27*
Но условием твердости в борьбе и как бы составною ее частью является мужество перед опасностью. Мужество таким образом является вторым основным требованием этики любви к дальнему и служит предметом постоянного прославления со стороны Ницше–Заратустры. Заратустра – «друг всех, кто предпринимает далекие путешествия и не любит жить без опасностей»28*. «Что хорошо?» – спрашивает он и дает категорический ответ: «хорошо быть мужественным; и оставим маленьким девочкам говорить: хорошо то, что мило и трогательно»29*. Сам Заратустра, этот прообраз всех борцов за «дальнее», является для окружающих как бы прямым воплощением мужества:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Манифесты русского идеализма"
Книги похожие на "Манифесты русского идеализма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма"
Отзывы читателей о книге "Манифесты русского идеализма", комментарии и мнения людей о произведении.