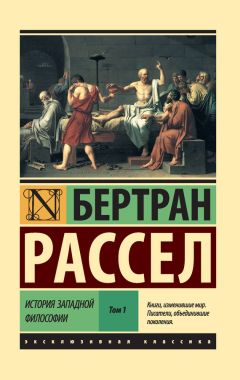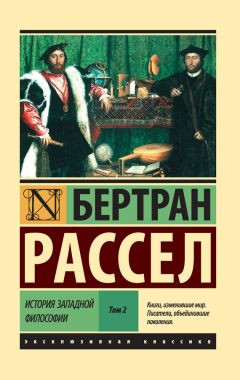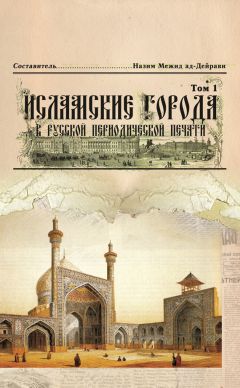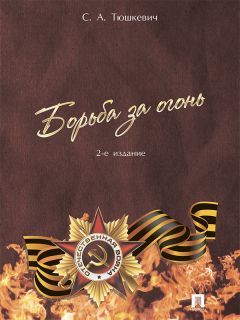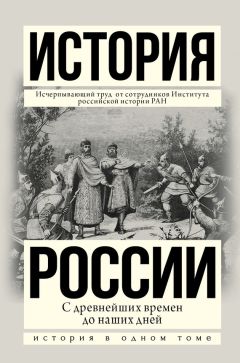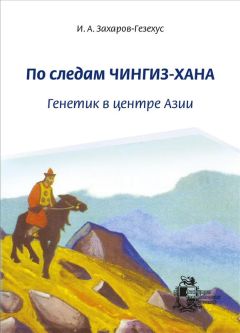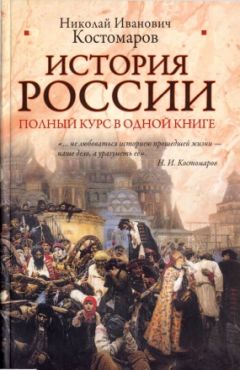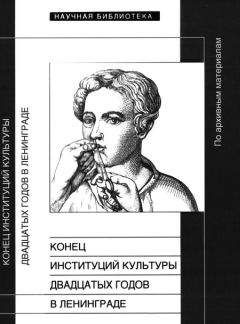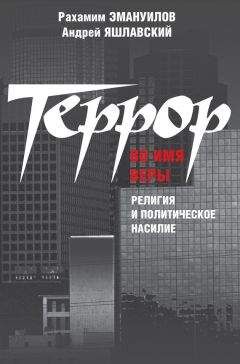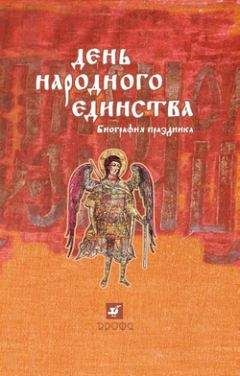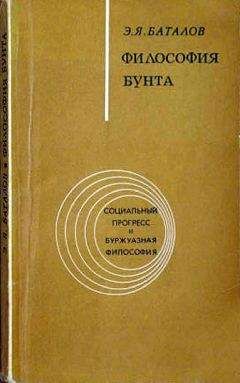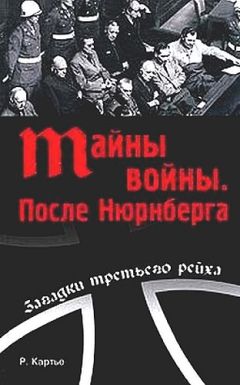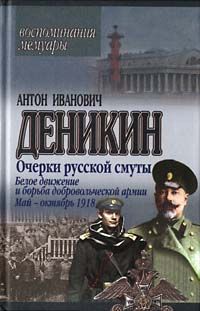Степан Шешуков - Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов
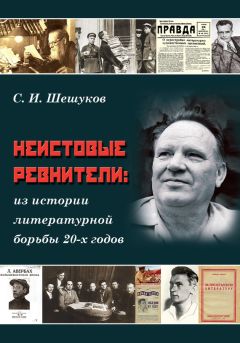
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов"
Описание и краткое содержание "Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов" читать бесплатно онлайн.
Степан Иванович Шешуков известен среди литературоведов и широкого круга читателей книгой «Александр Фадеев», а также выступлениями в центральной периодической печати по вопросам теории и практики литературного процесса.
В настоящем исследовании ученый анализирует состояние литературного процесса 20-х – начала 30-х годов. В книге раскрывается литературная борьба, теоретические споры и поиски отдельных литературных групп и течений того времени.
В центре внимания автора находится история РАПП.
Можно также допустить, что деятели литературного журнала не следили систематически за политической жизнью в стране и не знали документов партии об отношении к интеллигенции. Но чем объяснить такой факт: г. Лелевич начинает свой обзор «1923 год. Литературные итоги» цитатой из резолюции ЦК и ЦКК от 7 декабря 1923 года: «Поворот в сторону советской власти широких слоев интеллигенции, будучи в своей основе глубоко положительным явлением, может иметь отрицательные последствия…»[106] – и все внимание сосредоточивает на словах «может иметь отрицательные последствия». Не на том главном, что широкие слои интеллигенции повернули в сторону Советской власти, не на том Важном, что это в основе своей глубоко положительное явление, а на том, что еще «может иметь». В партийном документе дальше говорится, что на партию, в связи с таким широким поворотом интеллигенции, ложится большая ответственность по ее перевоспитанию. Лелевич же после цитаты из резолюции ЦК и ЦКК пишет: «Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у которого графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице, подарил нас «Аэлитой», вещью слабой и неоригинальной»[107]. В том же разносном духе он пишет о Н. Тихонове, Вс. Иванове, И. Эренбурге, В. Маяковском. Чем же все это объяснить?
Уже тогда дал глубокое объяснение этому А. К. Воронский в статье «Искусство как познание жизни и современность (К вопросу о наших литературных разногласиях)», опубликованной в «Красной нови» за август – сентябрь 1923 года. Непосредственно на поставленный нами вопрос Воронский отвечает следующим образом: «Усвоив общие положения, что внеклассового искусства нет, что художник – сын своей эпохи и класса… критики «На посту» решили, что о никакой объективизме не может быть и речи, что всякое художество насквозь пропитано узкоклассовым, узкоутилитарным субъективизмом. Эта вульгаризация теории классовой борьбы есть особая разновидность релятивизма, доведенного до абсурда. Из тонкого оружия марксистской критики в таком понимании теория превращается в обух, которым гвоздят направо и налево без всякого толку и без разбору. Что в формах классовой борьбы идет вперед, прогрессирует или развивается все общество в целом, что в этих формах совершается накопление материальных и духовных ценностей – это с такой точки зрения должно казаться нелепым, вредной ересью. Классовая борьба превращается в самоцель, она самодовлеюща, она не служит средством для поступательного развития человеческого общества. Никакой преемственности от одного класса к другому и быть не может.
Наука, искусство и т. д., находившиеся в руках одного класса, пригодны только на слом для другого класса – антипода, так как ничего в них, помимо классового субъективизма, заостренного против интересов этого иного класса, нет. Достаточно поэтому сказать про такого-то ученого, художника – «буржуазный», чтобы идеологу пролетариата взять в руки обух и начать «энергично распространять пространство». Так наши критики и делают»[108].
На том уровне литературной науки не признавалось понятие «народность литературы». Не только рапповцы, но и люди с таким глубоким взглядом на развитие искусства, как Воронский, относили народность к буржуазной категории. Однако в своих работах он первый из советских литературоведов подошел к научному, ленинскому пониманию и обоснованию народности литературы.
Напостовцы видели в художественной литературе только «узкоклассовый субъективизм». Воронский понимал, что подлинный художник, раскрывая правду жизни, познавая ее, вырывался из «узкоклассового субъективизма», смотрел на жизнь глазами передовых людей общества и выражал прогрессивные устремления эпохи, кровные интересы народа, то есть становился народным писателем. Именно только поэтому с терновыми венками шли великие писатели по пути скорби и мук, именуемому русской литературой.
В своей работе «Искусство как познание жизни и современность…» Воронский раскрыл особенности, специфику художественного творчества и, повторяем, дал глубокое обоснование народности литературы. Причины разных позиций коммунистов в подходе к попутчикам Воронский видит «прежде всего в разном подходе к искусству, к художнику. Все остальное вытекает из этого основного и главного»[109]. Вот почему большая часть статьи посвящена ответу на вопрос: что такое искусство? В своем понимании искусства Воронский очень близок Белинскому. Он сравнивает искусство с наукой, находит между ними много общего. У искусства, как и у науки, один и тот же предмет: «жизнь, действительность», которую они познают, только «наука анализирует, искусство синтезирует; наука отвлеченна, искусство конкретно; наука обращается к уму человека, искусство – к чувственной природе его. Наука познает жизнь с помощью понятий, искусство – с помощью образов, в форме живого чувственного созерцания».
Как и в предыдущей статье, здесь Воронский доказывает, то искусство «дает объективные истины», что «подлинное художество требует точности, потому что имеет дело с объектом, оно опытно»[110]. Мечта, фантазия, вымысел не противоречат определению художества как познания жизни. И чтобы это положение мотивировать, Воронский высказывает мысль, которая потом войдет в понятие социалистического реализма: «Идеальное завтра, действительность завтрашнего дня, новый человек, идущий на смену ветхому Адаму, только в том случае не является голой, отвлеченной мечтой, если противоположность этого «завтра» сегодняшнему относительна, т. е. если это «завтра» зреет в недрах текущей действительности, если прообраз, отдельные свойства, черты будущего намечены, «носятся в воздухе».
Далее Воронский говорит, что художественная литература – явление классовое, что писатель «всегда окрашивает свои произведения соответствующей идеологией, иногда искажая сознательно или бессознательно типы, картины, события и т. д. Тогда произведение становится тенденциозным»[111]. Чтобы в произведении тенденциозность не накладывала на правду жизни искажения, делает вывод Воронский и опять высказывает мысль, которая сейчас является нашим завоеванием, необходимо, «чтобы субъективные настроения соответствовали природе объекта, чтобы публицистика и политика были в то же время на уровне лучших идеалов человечества».
Воронский сразу рассмотрел, что сближает лефовцев с напостовцами. Но если свои теории лефовцы доводили до абсурда, до открытой ликвидации искусства и тем самым разоблачали сами себя, то напостовцы ратовали за «синтетическое искусство», за «подлинное искусство пролетариата», хотя фактически (своим отрицанием традиций, отталкиванием от Советской власти попутчиков, непониманием специфики искусства) тоже шли к ликвидации искусства. Вот почему прежде всего ошибки напостовцев нуждались в серьезной критике.
Напостовцы справедливо борются за идейное искусство, утверждают, что в наш век только коммунизм является высшим идеалом человечества. «Кто же с этим спорит!» – говорит Воронский. Многие писатели-эмигранты «сделались литературными импотентами потому, что «самоопределились» в сторону мракобесия, за которым нет исторического будущего»[112]. Но Воронский не согласен с утверждением напостовцев, что «прежде всего важна идейная ценность художественного произведения и уже затем художественное мастерство»[113].
Призыв Воронского к писателям «сочетать художественную правду с идеалами коммунизма», «глубже, внимательнее, сосредоточеннее» изучать жизнь, «идти плечом к плечу с новыми строителями», ибо только это позволит им создавать художественно правдивые произведения, – этот призыв свидетельствует, насколько правильно понимал Воронский задачи создания новой художественной литературы. Именно поэтому он так непримирим к примитивным утверждениям Ил. Вардина, в которых выражается непонимание сложного процесса перехода попутчиков на позиции коммунизма. Вардин пишет: «Воронский должен взять за пуговичку Пильняка, Вс. Иванова, Есенина и сказать им: чтобы понять объективную истину, вы должны стать более или менее политически грамотными, вы должны усвоить основы пролетарской идеологии, хотя бы в размере уездной совпартшколы»[114]. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину» зло высмеял этот примитивизм напостовцев:
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —
Стали б
содержанием
премного одаренней.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
Утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
На себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
Чем от скуки![115]
«Вопрос, следовательно, не в одном усвоении политграмоты, как то думает тов. Вардин, – как бы продолжая мысль Маяковского, говорит Воронский, – ой гораздо серьезнее и глубже. Что толку в том, что у нас целые кружки заняты передачей газетных передовиц в рифмованных стихах»[116].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов"
Книги похожие на "Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Степан Шешуков - Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов"
Отзывы читателей о книге "Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.