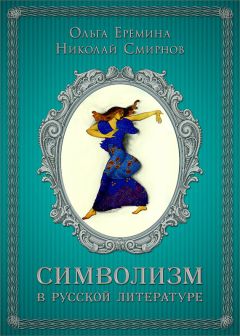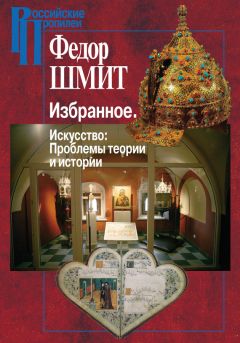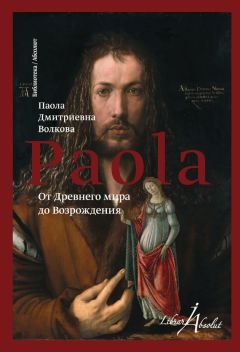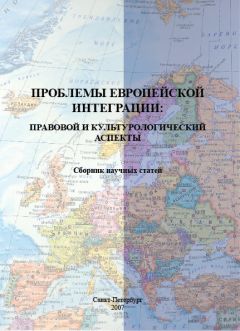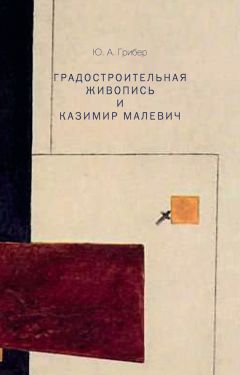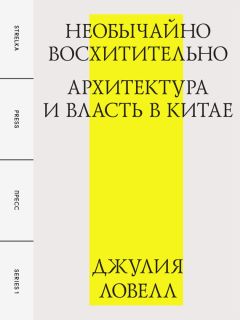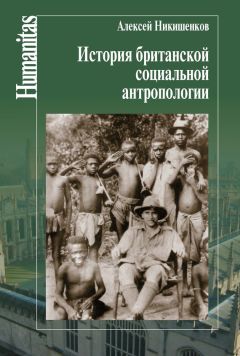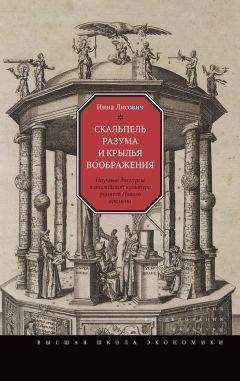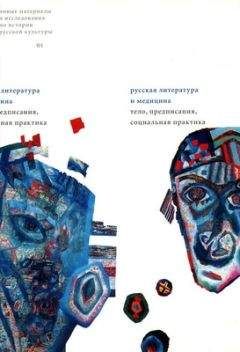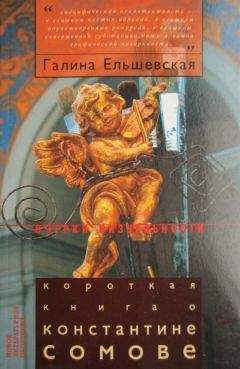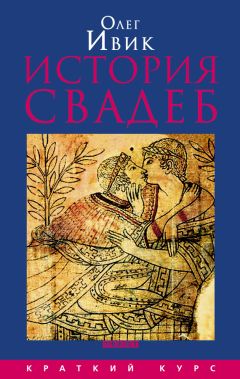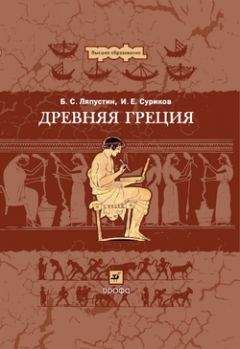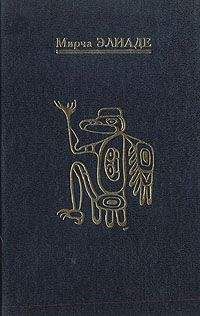Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
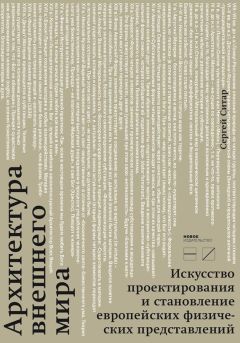
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений"
Описание и краткое содержание "Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений" читать бесплатно онлайн.
Книга Сергея Ситара «Архитектура внешнего мира» посвящена анализу взаимной обусловленности исторических судеб европейского естествознания и европейской архитектурной теории, а также поиску выхода из системного кризиса, в котором оказалась архитектурно-градостроительная дисциплина в связи с переходом естествознания в постклассическую фазу. Материалом для сопоставления служат, с одной стороны, тексты наиболее влиятельных философов и естествоиспытателей различных эпох, а с другой – ставшие фундаментальными для архитектурной профессии трактаты и манифесты, принадлежащие перу Витрувия, Л.-Б. Альберти, А. Аверлино, К. Перро, Э.-Э. Виолле-ле-Дюка, Ле Корбюзье и Ч. Дженкса.
Новоевропейский процесс деэстетизации непосредственного опыта, или квантификации чувственных качеств, начавшийся с упразднения средневековых «субстанциональных форм», можно, таким образом, представить в виде двух последовательных этапов. На первом этапе молекулярная химия и теория электромагнитных колебаний приучают европейцев к мысли о том, что все непосредственно воспринимаемые качества (цвет, запах, вкус, тепло, твердость и т. д.) суть только «кажимости», за которыми стоят те или иные количественные вариации параметров единого бескачественного субстрата (материи) – частота излучения, структура и скорость перемещения молекул, заряды ионов и т. п. Эвристическая сила нового объяснительного принципа на этом этапе вполне «искупает» постоянно расширяющийся разрыв между «феноменальным» и «ноуменальным» планами действительности (в терминологии Канта): в частности, тот факт, что совершенно несхожие по свойствам материалы (скажем, графит и алмаз) трактуются как состоящие из одного и того же простого вещества (углерода), что «собственные» качества простых веществ в большинстве случаев не проявляются внешне в их химических соединениях и что, к примеру, в нагретом твердом теле мы зрительно и тактильно не воспринимаем никакого движения частиц. На втором этапе «условный» статус качеств и их зависимость от научного представления дополнительно закрепляются за счет условно-конвенционального «приписывания» чувственных характеристик микрообъектам науки, которые в принципе не могут восприниматься чувствами непосредственно.
В предложенной Жаном Бодрийяром теории «символического обмена» двум вышеперечисленным этапам соответствуют две фазы эволюции закона стоимости – товарная (или фаза «производства») и структурная (фаза «симуляции»)[44]. Превращение квантифицированной материи в универсальный субстрат действительности и выдвижение денег на роль универсального субстрата-измерителя общественного производства (на роль «всеобщего эквивалента» у Маркса) настолько синхронизированы в истории, что было бы странно подвергать сомнению взаимную обусловленность этих двух событий[45]. Вопрос о том, что глубже повлияло на формирование современных европейских представлений о веществе – авраамические религии (монотеизм) или развитие капитализма, – сам по себе интересен, однако едва ли допускает окончательное и однозначное решение. На основе вышесказанного можно достаточно уверенно утверждать, что влияние ислама и христианства (точнее, богословских доктрин этих двух ветвей монотеизма) более ощутимо в процессе онтологизации материи, в то время как становление между народной монетарной экономики скорее связано с процессом ее квантификации (замены качественных характеристик количественными)[46]. Как бы то ни было, два доминирующих сегодня на общественной сцене типа дискурса – политический и экономический – прямо соответствуют двум центральным методологическим концептам новоевропейской науки, из различия между которыми вырастают и все ее исторические трудности. Первый из них – концепт закона – предполагает поиск за каждым наблюдаемым процессом нерушимого универсального принципа, определяющего «заранее» течение событий и тем самым имплицитно упраздняющего время как источник неопределенности. Второй – концепт имманентной силы – предполагает непрерывный поиск скрытого действующего агента, непосредственно присутствующего в мире (то есть во времени) и отвечающего за разнообразие природных фактов и явлений. В XVII веке непреодолимый разрыв между этими двумя объяснительными принципами был источником разногласий между позициями Декарта и Ньютона (первый шел от очевидности упорядоченного движения вещей к элиминации вопроса о силах, второй принимал наличие сил или импульсов как нечто очевидное и от них переходил к формулировке законов движения)[47]. В настоящее время то же различие определяет несовместимость, с одной стороны, эйнштейновской общей теории относительности, принятой большинством ученых для описания процессов астрофизического масштаба, и, с другой стороны, квантовой теорией, которая оперирует понятием «импульс» и в основном используется для описания физических событий на микроуровне.
Оппозицию силы и закона можно рассматривать как структуро-образующую, или, точнее, «предметообразующую», для самых разных отраслей современного знания – в частности, для психоанализа, в котором ей соответствует базовое различие между активностью «либидо» (шире – сферы бессознательного) и «символическим порядком» как системой ограничений, накладываемой сообществом на индивидуальные бессознательные влечения. Во второй половине ХХ века постструктурализм сделал попытку переориентировать эту оппозицию на анализ «макроскопических» социальных явлений и выстроить на ее основе модель эволюции языка и культуры: в сфере языка-мышления был выделен глубинный уровень доиндивидуальных процессов (уровень «генотекста»), сквозь который в размеченное предшествующими культурными содержаниями пространство («семиотический диспозитив») периодически «всплывают» оформленные авторские высказывания («фенотексты») как продукты диалектической игры между «хтоническими» («материально-физиологическими») импульсами и выработанной обществом системой организации значений[48]. То же различие силы/закона лежит в основе действующих политэкономических теорий (либо как каноническая марксистская оппозиция «производительных сил» и «производственных отношений», либо как диалектика «частной инициативы» и «интересов гражданского общества» в либеральных и неолиберальных концепциях).
Принимая во внимание столь широкую популярность этой оппозиции в современных теориях самого разного профиля, имеет смысл вспомнить о том, что понятия «политика» и «экономика» стали «глобальными» по своему объему и охвату сравнительно недавно, а исходно были связаны с архитектурно-строительным масштабом и традиционным набором архитектурных задач: «политика» происходит от слова «полис» (город, община), а «экономика» – от слов «ойкос» (дом, семейное обиталище) и «номос» (пастбище, местный уклад). Соответственно, сегодняшнюю универсальную когнитивную оппозицию сил/законов можно интерпретировать как воспроизведение почти во всех знаниевых абстракциях исторического различия между частным (личным, семейным) и общественным (племенным, общинным, национальным и т. д.), – двумя полюсами жизни, сосуществование которых издавна регулировалось средствами архитектуры, градостроительства и прикладной геометрии (землемерного искусства). Отсюда можно заключить, что продолжающиеся усилия по квантификации материи есть, в сущности, усилия по переведению всего телесного мира в правовое состояние по аналогии с установлением такого состояния на конкретной обитаемой территории средствами прикладной геометрии (межевание участков) и архитектуры-градостроительства (разбивка улиц, возведение стен и т. д.). К этому же набору прикладных средств «когнитивного обустройства мира» следует отнести и астрономию-космологию, которая традиционно была посредницей между повседневной жизнью и небесным «божественным порядком», а сегодня скорее играет роль инженера-конструктора и стража бесконечно отдаленных «внешних пределов» материалистической Вселенной, в том числе и ее пределов во времени – вплоть до моментов ее возникновения и гибели.
Дополнительная сложность, которая возникает в процессе «тонкой настройки» взаимодействия сил и законов по мере секуляризации культуры, состоит в том, что «экономическое» (частное, либидинальное) и «политическое» (общественное, юридическое) измерения жизни все в большей степени предстают как сферы действия безличных сил и господства безличных принципов. В физической науке сфера «производительных сил» (действующих причин происходящего) теряется в глубине процессов микроскопического масштаба, недоступных для чувств, наглядного моделирования и даже инструментального измерения; параллельно с этим психология помещает эти силы в «слепую зону» темных бессознательных влечений и загадочных нейрофизиологических процессов. «Политическую» составляющую (законы происходящего) естествознание пытается закрепить в виде труднодоступного, но непременно безличного математического описания единых принципов организации Вселенной; в то время как общественные науки и общественные институты, со своей стороны, видят такую же нейтральную безличность непременным условием конструируемой ими совершенной политико-правовой системы – единого общемирового стандарта процедур и правил организации жизни, гарантирующего благополучие для всех (оптимально инструментализированной демократии). Историческая ограниченность новоевропейского «математизированного» знания заключается, соответственно, не столько в том, что оно конституирует и «спонтанные силы», и «идеальные принципы» как свое собственное «недоступное необходимое» – постоянно отодвигая, откладывая встречу с сущностью того и другого[49], – а скорее в том, что в своем развитии эта знаниевая диспозиция оставляет человеку и локальной группе все меньшую опору для ощущения своей причастности к миру. Если еще раз последовать введенному Кантом делению опыта на феноменальный и ноуменальный планы, то получится, что для новоевропейской науки феномен всегда требует сведения к числовой абстракции – то есть «исследования» и измерения специальными приборами со все увеличивающейся разрешающей способностью и т. д. – и, стало быть, никогда не само-тождествен; а ноумен, в свою очередь, всегда недостаточно конкретен и потому требует для своего выражения непрерывно усложняющейся математической формализации (перехода от понятия функции к понятиям функционала, оператора, тензора, введения пространств со множественной размерностью, «вмещающих» колоссальные по объему числовые массивы и т. д.) – иными словами, он также никогда не есть то, что он есть. Пытаясь обобщить развитие науки за последние четыре века, мы становимся свидетелями драматического, внутренне противоречивого движения: с одной стороны, наука рисует все более детализированную картину мира, претендующую на все большую достоверность; с другой стороны, она же, стремясь исключить из своих представлений какие-либо «пережитки» теологии и антропоморфных образов, последовательно лишает картину мира всякой наглядности, эстетической определенности, связности и непосредственной интеллигибельности, что равнозначно стиранию картины или ее «засвечиванию». «История вселения», понимаемая как процесс непрерывного накопления физических и других знаний о мире, оказывается в то же самое время историей выселения, в ходе которой человек все глубже отчуждается (эстетически) от того, что его непосредственно окружает. Используя термин американского психолога и культуролога Грегори Бейтсона, можно сказать, что человек новоевропейской культуры оказывается в ситуации «двойной связки» (double bind): с одной стороны, светское мировоззрение настраивает его на восприятие повседневного «внешнего» мира как единственной доступной ему реальности, с другой стороны, технократическое образование требует от него занимать по отношению к этому единственному миру позицию отстраненного «объективного» наблюдателя, а развитие науки демонстрирует, что вещи в этом мире никогда не являются тем, чем они являются.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений"
Книги похожие на "Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений"
Отзывы читателей о книге "Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений", комментарии и мнения людей о произведении.