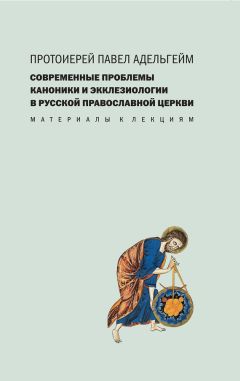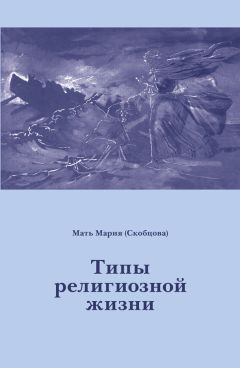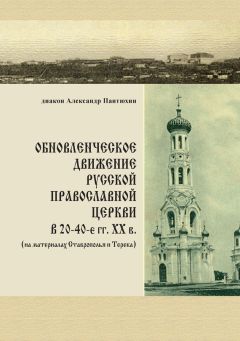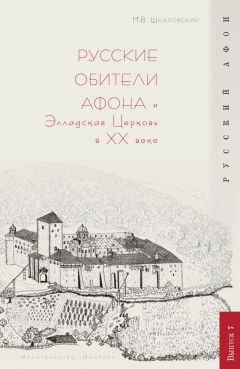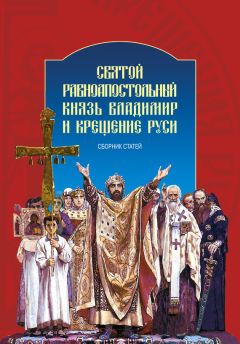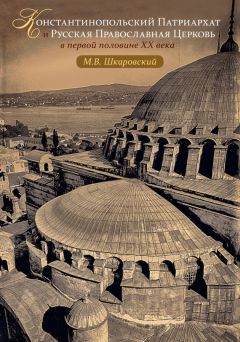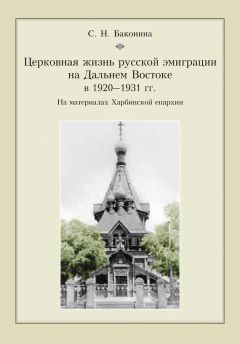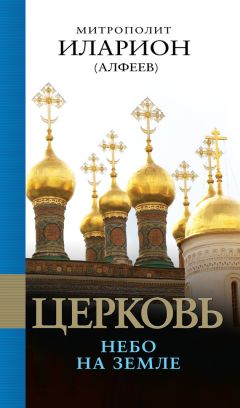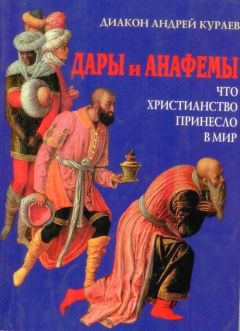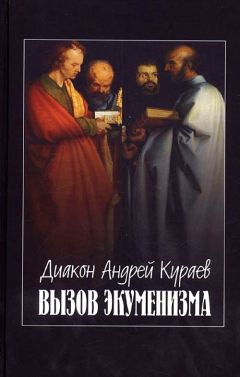Андрей Кострюков - Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции
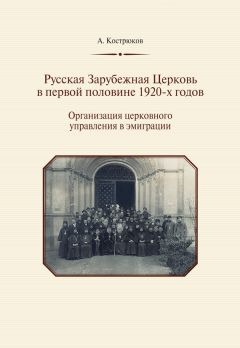
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции"
Описание и краткое содержание "Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена истории возникновения и становления Русской Православной Церкви заграницей. Данная тема мало изучена, ибо в течение десятилетий рассматривалась исключительно с полемических позиций. На основании архивных документов автор постарался непредвзято ответить на ряд вопросов, связанных с историей возникновения Русской Зарубежной Церкви и с позицией Святейшего Патриарха Тихона в отношении Архиерейского Синода в Сремских Карловцах. В книге нашли отражение события, связанные с течениями внутри Русской Православной Церкви заграницей в начале 1920‑х гг., подробно рассмотрена позиция оказавшихся в эмиграции архиереев и других церковных деятелей в отношении распоряжений Церковной власти в Москве.
Монография рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся историей Русской Церкви.
8 августа 1922 г. митрополит Евлогий направил в Карловцы записку, где предлагал собравшимся в этом городе архиереям закрыть ВЦУ, но приступить к формированию нового Церковного управления или восстановлению старого, существовавшего до Карловацкого Собора[217].
Таким образом, хотя позиция митрополита Евлогия стала понемногу меняться в сторону выполнения указа, архипастырь все же опять дал понять, что выполнять распоряжение Патриарха не намерен. Такое поведение авторитетного иерарха, конечно же, способствовало укреплению остальных архиереев в мысли пойти против указа. Важно, что на заседании Соединенного присутствия Российского Заграничного Синода и Церковного Совета во главе с архиепископом Феофаном (Быстровым) 30 июня были приведены аргументы против выполнения указа, схожие с аргументами митрополита Евлогия, и было фактически решено, что указ выполнен не будет[218].
Митрополит Евлогий провел все лето на лечении в Киссингене и появился в Карловцах в августе 1922 года. Как пишет митрополит в воспоминаниях, он, по прибытии в Карловцы, почувствовал, что сформировалась оппозиция указу Патриарха, «слышались речи о том, что “указ вынужденный – не свободное волеизъявление Патриарха; что его можно не исполнять”»[219]. Митрополит был возмущен. Неприятное впечатление произвело на него и выступление Е. Махароблидзе, где доказывалось, что указ издан под давлением большевиков и выполнять его не следует.
Позиция митрополита Евлогия кажется странной – не он ли менее, чем за три месяца до этого сам мыслил подобным образом? Однако недоумение исчезнет, если вспомнить, что отношение к указу № 348 (349) не единственный пример непоследовательности архипастыря. Чем объяснить тот факт, что он, известный до революции монархист и консерватор, в эмиграции резко поменял свои убеждения? Чем объяснить то, что пред лицом Архиерейского Синода митрополит говорил одно, а по возвращении в Париж другое?
Архиепископ Никон объясняет перемену в политических взглядах архипастыря влиянием либеральных церковно-общественных кругов, пребывавших «во власти идей февральской революции» и желавших противопоставить митрополита Евлогия консервативному Архиерейскому Синоду в Карловцах. Среди этих «влиятельных кругов» архиепископ Никон называет газету «Дни» (орган А. Ф. Керенского), «Возрождение» (П. Б. Струве), «Последние новости» (П. Н. Милюков). О «политиканствующих советниках», имевших влияние на митрополита Евлогия, свидетельствует и архимандрит Киприан (Керн)[220]. Псаломщик М. Леонович в своем письме митрополиту Сергию (Страгородскому) утверждал, что митрополит Евлогий является «послушным орудием» В. Н. Коковцова[221]. Сам митрополит Евлогий говорил о влиянии на него М. Н. Гирса[222].
Н. М. Зернов говорит, что в среде церковной эмиграции сформировалось течение, идеологами которого были протоиерей С. Булгаков, Н. Бердяев и Г. Федотов. Это течение отказалось от идеи крестового похода против большевиков и сгруппировалось вокруг митрополита Евлогия за неимением более отвечающего его воззрениям архиерея[223].
По мнению архиепископа Никона, свое отношение к постановлению Патриарха митрополит Евлогий поменял в Киссингене, когда узнал отношение влиятельных лиц к указу № 348 (349)[224].
При этом, митрополит Евлогий с огромным уважением относился к митрополиту Антонию и, находясь в Сремских Карловцах, не мог отстаивать идеи, внушенные парижским окружением. Это помогает понять двойственность поступков митрополита Евлогия.
Не желая бросить тень на митрополита Евлогия, хочется все же отметить, что влияние окружения, с одной стороны, и искренняя расположенность ко многим зарубежным иерархам, с другой, действительно объясняет в поведении архипастыря многое и помогает понять глубины церковного разделения в русской эмиграции.
* * *Не менее интересной представляется позиция митрополита Антония (Храповицкого). От мнения Председателя Зарубежного ВЦУ зависело многое. В отличие от митрополита Евлогия митрополит Антоний изначально был готов выполнить указ. Его реакция была однозначной – он направил митрополиту Евлогию телеграмму на французском языке следующего содержания: «Волю Патриарха необходимо выполнить немедленно приезжайте»[225], а затем решил удалиться на Афон. «По получении Вашего Указа о закрытии Высшего Русского Церковного Управления заграницей, – писал митрополит Антоний Патриарху Тихону в августе 1923 г., – я принял решение немедленно его исполнить и удалиться на покой на Афон, где я проживал с марта 1920 года по сентябрь того года»[226].
Не было у Председателя Заграничного ВЦУ и сомнений в подлинности указа и его толкования. Как свидетельствовал впоследствии епископ Вениамин (Федченков), Председатель Заграничного ВЦУ с самого начала заявлял относительно указа – «Ясность полная» и толковал его вполне однозначно: «Указ упраздняет всякое Церковное Заграничное Управление и всю Заграничную Церковную жизнь Европы рассматривает как одну Епархию, возглавляемую митр[ополитом] Евлогием. Итак, Высшая Церковная власть во всей Европе за границей вручается митрополиту Евлогию»[227].
Казалось бы, вопрос был решен – митрополит Антоний уступал место митрополиту Евлогию. Однако к осени 1922 г. мнение главы Зарубежного ВЦУ изменилось, и он уже занимал противоположную позицию.
Причиной тому стал, прежде всего, отказ Протата[228] горы Афон принять митрополита Антония. Второй причиной, не менее важной, стала непоследовательность владыки – черта, отмеченная многими его современниками.
Яркий пример такой непоследовательности приводит протопресвитер Георгий Шавельский. «Всем было известно его нетерпимое отношение к инославным христианам: всякие моления и за живых, и за умерших инославных им запрещались», – пишет протопресвитер и тут же рассказывает о дружбе митрополита (во время его пребывания на Киевской кафедре) с австрийским генералом Эйхорном. Узнав о тяжелом ранении последнего, архипастырь приказал монахам собраться в соборе Киево-Печерской Лавры и служить молебен о здравии. Во время совершения молебна пришло известие о смерти Эйхорна, и митрополит тут же повелел служить по нему панихиду[229].
Другой пример непоследовательности митрополита Антония приводит архимандрит Киприан (Керн), описывая известное разделение между Карловацким Синодом и митрополитом Евлогием в 1926–1933 годах. С одной стороны, митрополит Антоний принимал через покаяние тех, кто приходил из юрисдикции митрополита Евлогия, говорил о безблагодатности совершаемых им таинств и даже повторно отпел Императрицу Марию Феодоровну, заявив о недействительности отпевания, совершенного в Париже. С другой стороны, он прекрасно понимал, что причины разделения неглубоки и несерьезны, в то же самое время заявляя: «Два старых дурака поссорились из-за выеденного яйца, а потом раздули»[230].
В связи с этим не кажется удивительным свидетельство митрополита Евлогия относительно Свято-Сергиевского института. «Лично митрополит Антоний, – писал митрополит Евлогий, – к институту относился благожелательно, особенно после личного ознакомления с ним в 1926 г., отмечая это в частных беседах и в церковных проповедях и в печати. Но удивительно, что в то же самое время он не только не протестовал против клеветнических нападок на институт, но и разделял их»[231].
К непоследовательности главы Зарубежного ВЦУ прибавилась и его неустойчивость к влиянию своего окружения. Архипастырь нуждался в помощниках, прежде всего, из-за отсутствия административных способностей. «Митрополит Антоний не был ни организатором, ни администратором», – пишет В. А. Маевский[232]. Не любивший митрополита протопресвитер Г. Шавельский высказывался еще более резко: «У него как-то странно уживались талантливость с бесталанностью, мудрость с наивностью <…> Рассказывали мне, и сам я потом в Екатеринодаре наблюдал, его епархиальное управление и вся его жизнь отличались редкой хаотичностью»[233].
О влиянии на митрополита Антония различных деятелей писали и митрополит Вениамин (Федченков), и С. В. Троицкий, и В. А. Маевский[234]. Известно о влиянии на митрополита управляющих синодальной канцелярией, сначала Е. И. Махароблидзе, затем Ю. П. Граббе (будущего протопресвитера, затем епископа). «По настоянию Кусти (Ексакустодиана Махароблидзе – А. К.), я послал отповедь Патриарху Фотию», – писал митрополит архиепископу Гавриилу (Чепуру). Из писем митрополита Антония видно, насколько он был расположен к Ю. Граббе, насколько был доволен характеристиками, которые последний давал их общим знакомым[235]. По свидетельству Маевского, Ю. Граббе впоследствии управлял всеми делами РПЦЗ в перерывах между сессиями Синода, а митрополит равнодушно подписывал все, что он приносил ему на подпись[236]. Епископ Василий (Родзянко) говорит о влиянии на главу Зарубежной Церкви П. С. Лопухина и Н. П. Рклицкого (будущего архиепископа)[237]. Более того, по глубокому убеждению епископа Василия, именно окружение митрополита Антония и создало ту Зарубежную Церковь, «которую мы сейчас имеем»[238]. «Большой умница – он не умел разбираться в людях», – писал о митрополите Антонии Н. Зернов[239], а архимандрит Киприан (Керн) отмечал, что Первоиерарх Зарубежной Церкви «упрямо верил даже и скомпрометировавшим себя людям, лишь бы они умели раз втереться в его доверие»[240].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции"
Книги похожие на "Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Кострюков - Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции"
Отзывы читателей о книге "Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции", комментарии и мнения людей о произведении.