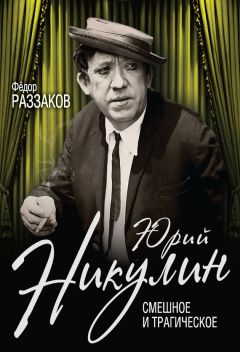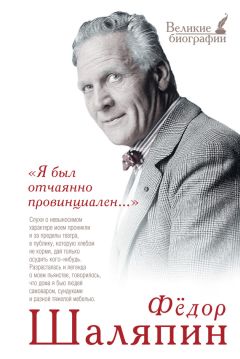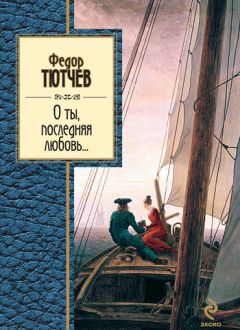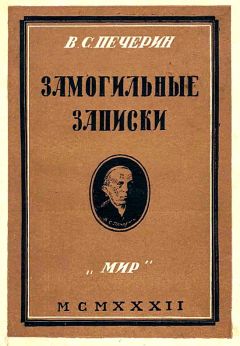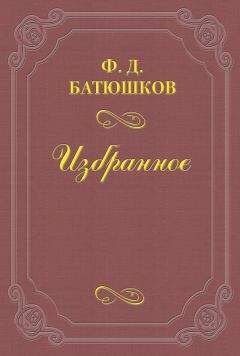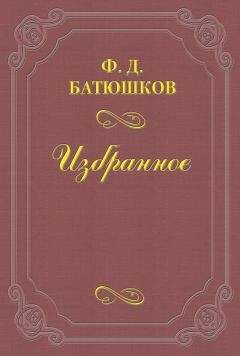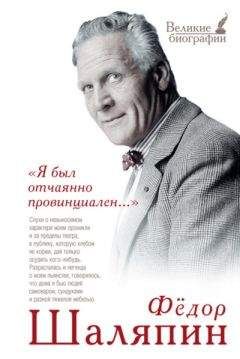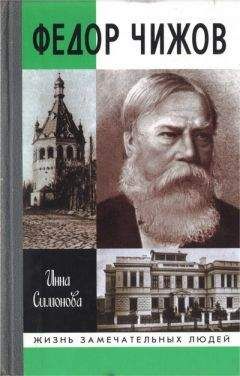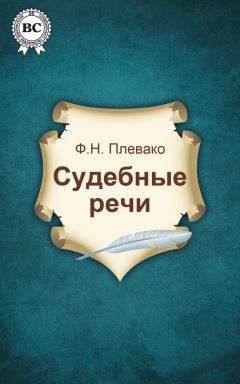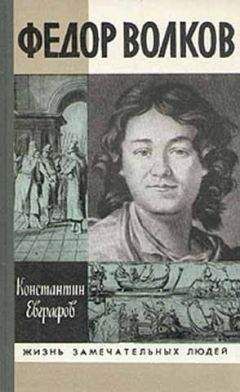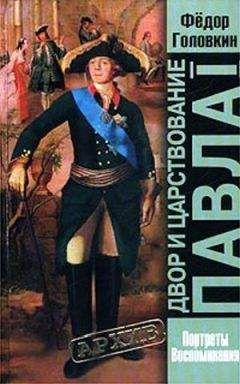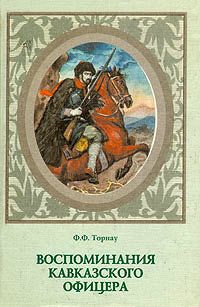Федор Буслаев - Мои воспоминания
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мои воспоминания"
Описание и краткое содержание "Мои воспоминания" читать бесплатно онлайн.
«Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г. …»
Обильную поживу для приятного и полезного чтения предлагали нам выходившие тогда ежегодно литературные сборники под названием альманахов, и из них особенно «Полярная Звезда». У матушки было два этих альманаха, не помню в точности за которые года: за 1822-й и за 1823-й или за 1823-й и за 1824-й. Если бы это вас заинтересовало, вы сами могли бы это решить по двум повестям Бестужева-Марлинского: в одном помещена была повесть «Ревельский турнир», а в другом – «Замок Нейгаузен». Ту и другую я давал списывать товарищам для их рукописных библиотек. С той поры, когда читал я эти альманахи, мне ни разу не случилось их видеть, а задумав рассказать вам мои воспоминания, я уже вовсе и не хотел их отыскивать для просмотра, из опасения, чтобы посторонним наплывом новых впечатлений не нарушить правдивости моего рассказа о том, что и как понимал я тогда в читаемой книге.
В этих двух «Полярных Звездах» я находил образчики всего лучшего, что создавалось тогда в русской литературе и впервые выходило в свет на страницах именно этих сборников: и стихотворения Пушкина, и басни Крылова, и, помнится, Жуковского отрывок из перевода «Орлеанской девы», а также и критические обозрения литературы, – кажется, Бестужева, и многое другое. Это была для меня бесподобная хрестоматия современной русской литературы, в высокой степени наставительная, – и столько же плодотворная своим художественным обаянием для моего нравственного совершенствования.
При этом почитаю не лишним сделать одно замечание, чтобы предупредить недоумение, которое, может быть, пришло вам теперь в голову: как позволялось и допускалось тогда, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, распространение изданий декабристов в читающей публике и даже между гимназистами. Вы еще более удивитесь, когда я скажу вам, что в стенах самой гимназии мы читали «Войнаровского» и «Думы» Рылеева и переписывали некоторые из них в тетрадки для своих рукописных собраний. При современном порядке вещей, в конце XIX столетия, конечно, очень трудно, почти невозможно представить себе многое из того, как жилось, думалось и чувствовалось в те старинные времена и в обстановке провинциальной глуши, куда я переношу вас своими воспоминаниями. Тогда никому и в голову не приходило соединять преступные деяния декабристов с их невинными литературными произведениями и еще тем более с такими изданиями их, как книжки «Полярной Звезды», в которых печатали свои новые произведения самые благонамеренные и безукоризненные в нравственном и политическом смысле писатели, как Жуковский, Крылов и многие другие, которых имена вы сами найдете, если вздумаете перелистать «Полярную Звезду». Скажу вам еще вот что. Читая и переписывая «Думы» Рылеева, мы, гимназисты, вовсе и не воображали, что Рылеев государственный преступник, и знать – не знали, что он был казнен. Напротив, он казался нам добрым патриотом, и я до сих пор помню начало его одной думы, которую мы все знали наизусть:
«Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!» –
Сусанину с гневом кричали враги.
Извините, если память обманула меня. За второй стих не ручаюсь.
Сверх того, мы вовсе и не знали, что такое декабристы, а если и слышали это название, то не придавали ему никакого смысла. В то время вообще не принято было говорить о предметах такого рода, даже считалось опасным; а если кому приходилось не только в обществе, но и у себя дома между своими сказать что-либо опасное, отзывающееся грозою, то говорилось шепотом, втихомолку, чтобы не слыхать было не только прислуге, но и детям. Для примера расскажу один случай. В Пензу приехал ревизор, вовсе не знаю, для какой потребы и что именно ревизовать. О нем много шушукалось с соблюдением строжайшей тайны, но в этой тихомолке мне не раз звучалось слово «Горголи», должно быть, имя того таинственного обозревателя. Невольно сближая это слово с античною Горгоною или Медузою, я представлял себе этого грозного незнакомца безобразным страшилищем с длинными волосами наподобие змеиных хвостов. Я еще не знал тогда, что в произведениях классического искусства Греции и Рима лицо Горгоны всегда отличается если не полною красотою, то прелестью, которая переходит в отупелое сластолюбие.
Это идиллическое настроение духа в непонимании различия между запрещенным цензурою и дозволенным не могло быть нарушено и тем, что мне привелось тогда познакомиться с одним великим произведением русской литературы по рукописному, а не печатному экземпляру. По принятому в то время обычаю составлять для себя собрание копий с печатных изданий, я полагал в простоте сердца, что и эта рукопись была того же разряда, нисколько не подозревая, что она содержала в себе сочинение, запрещенное для печати. То была комедия Грибоедова «Горе от ума». Дядя Андрей Сергеевич привез ее из Керенска матушке в подарок и сам читал ее нам, как мне тогда казалось, очень искусно и с большим одушевлением, ярко подчеркивая бойкие и занозливые эпиграммы Чацкого и смехотворные пошлости Фамусова, Скалозуба и Молчалина. При этом не могу не заметить, что многие из метких изречений Грибоедова, ставших потом всенародными пословицами, были и тогда уже оценены, подхвачены и разносились повсюду вслед за быстрым распространением копий. Доказательством тому служит захолустный Керенск, куда попала эта комедия, вероятно, из какой-нибудь барской усадьбы.
Хотя в Пензе не было книжного магазина, как я уже говорил вам, однако немногочисленная, так называемая образованная публика этого укромного губернского города настолько была развита и восприимчива к быстрым успехам русской литературы того православного Пушкинского периода, что мы могли стоять в уровень с читателями других более торных и бойких средоточий русской жизни. Например, вам хорошо известно, что «Евгений Онегин» появился в печати не весь вдруг, а выходил постепенно, отдельными главами. Немедленно по отпечатании первой главы этого произведения, распространилась она по нашему городу во множестве экземпляров, из которых один – не знаю, какими судьбами – попал и к нам в виде тоненькой брошюры, в восьмую долю листа – как сейчас вижу – в желтой обертке.
Хорошо помню эту драгоценную брошюру потому, что матушка подарила ее мне, вместе с комедиею Грибоедова, для собственной моей библиотеки, которая, по заведенному между моими товарищами обычаю, состояла в рукописных копиях с печатных повестей и стихотворений, как я уже говорил вам об этом. Эта печатная брошюра не была исключением в моем рукописном собрании. Время от времени я обогащал и разнообразил его грошовыми лубочными изданиями забавных повестей и народных сказок с картинками. На эту потребу матушка давала мне изредка по гривеннику или двугривенному, поощряя мое пристрастие к книгам. В последние два года до поступления в университет я мог покупать этот дешевый товар у коробейников и на свои собственные, заработанные мною деньги. Я давал уроки, по одному часу в день, десятилетнему мальчику, сыну Любовцова, состоявшего советником в каком-то присутственном месте; за уроки получал в месяц по десяти рублей ассигнациями, по-нынешнему три с полтиной, и всегда отдавал эти деньги матушке на хозяйство, и она каждый раз уделяла мне из этой суммы по двугривенному на покупку книжного хлама. Эти рукописные и ксилографические, а по-нашему лубочные, сокровища были у меня в надлежащем порядке помещены на полке, прилаженной к стене в детской комнате. Что же касается до книг моей матушки, то они сохранялись в длинном ящике, вышиною не более двух четвертей, называемом укладкою, который всегда стоял под кроватью. Вместо полок, держать домашнюю библиотеку в сундуке некогда было в обычае не только у нас, но и на Западе, как привелось мне видеть в кабинете некоего ученого мужа, относящемся к XVI веку, а теперь перенесенном сполна из какого-то монастыря в Зальцбургский исторический музей. Мне припомнилась тогда матушкина укладка. Но я уже слишком далеко увлекся от прерванного мною рассказа о чтении книг. Прошу припомнить: речь шла о новых, как говорится теперь, литературных веяниях, которые полстолетие назад были современными в истории цивилизации города Пензы. Нарасхват переходили тогда из рук в руки романы Загоскина «Юрий Милославский» и «Рославлев». Из таинственных замков, построенных фантазиею госпожи Ратклиф, с привидениями, выходцами с того света и с разными другими диковинными похождениями и ухищренными загадками, эти новые русские романы переносили меня на твердую почву родной земли, в обстановку очевидной действительности, в понятия и интересы русской жизни и в ее историю. С тех пор мне ни разу не случилось прочитать ни того, ни другого из этих двух романов, но и теперь любовно припоминаю, как Кирша по глубоким сугробам шагал на пчельник к колдуну и как потом молодецки умчался на аргамаке. Из «Рославлева» застряли в моей памяти два пункта: во-первых, станция Завидово, куда прискакал на ямских какой-то залихватский офицер, и во-вторых, с растрепанными волосами в одной рубашке женская фигура, которая диким голосом распевает: «Со святыми упокой». Я стоял тогда уже за исторический роман, который передо мною выводил на чистую воду помутившуюся фантазию моего «Английского милорда», но романа нравоописательного я не взлюбил, может быть, потому, что впервые познакомился с ним по «Ивану Выжигину» Булгарина. Впрочем, прошу вас не приписывать мне чести в прозорливом усмотрении недоброкачественных способностей автора: его навязчиво-поучительный роман был для меня просто скучен и вял. И в какое негодование пришел я, когда в «Библиотеке для Чтения» прочел гнусную, на мой взгляд, выходку барона Брамбеуса, будто бы исторический роман есть незаконнорожденный сын истории и поэзии. Из сказанного видите, что и в Пензе, несмотря на плохое учение в гимназии, я мог кое-как с грехом пополам ориентироваться в серьезных вопросах по теории словесности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мои воспоминания"
Книги похожие на "Мои воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Буслаев - Мои воспоминания"
Отзывы читателей о книге "Мои воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.