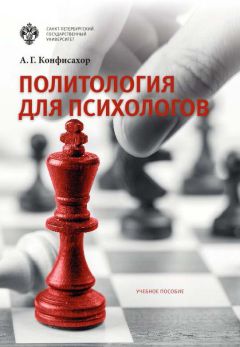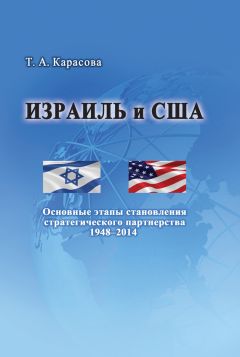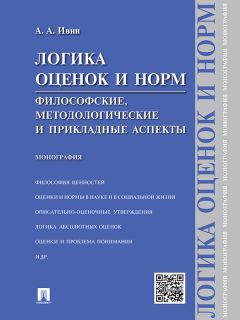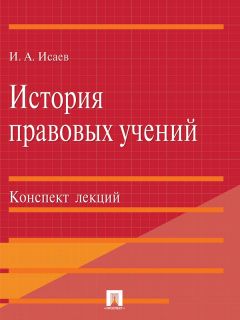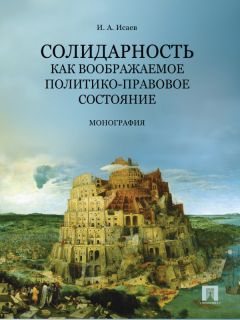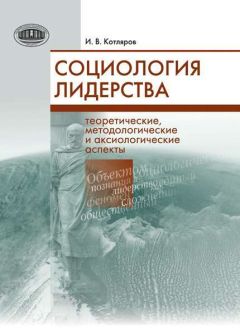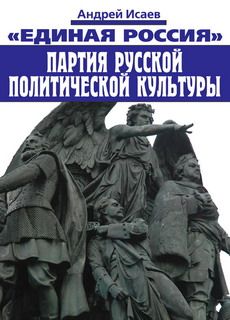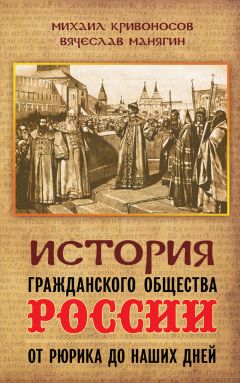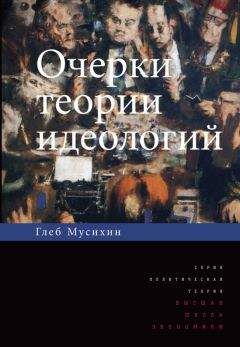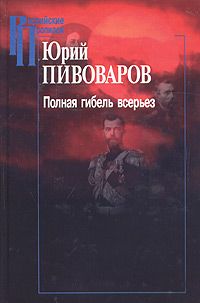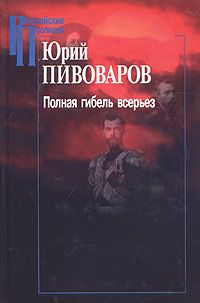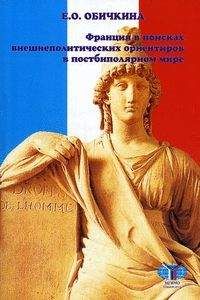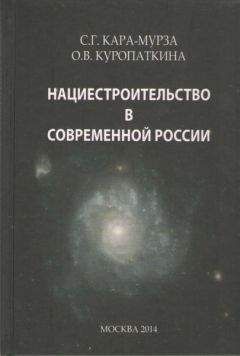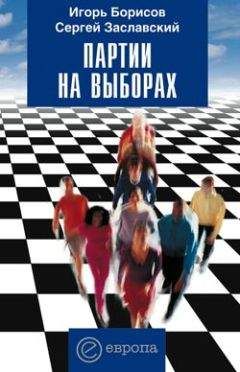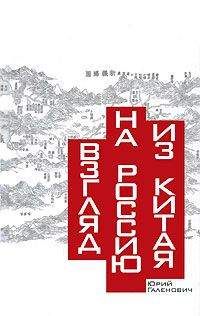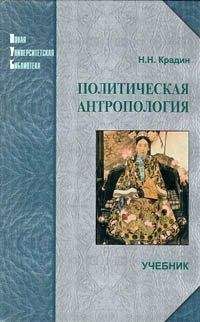Игорь Исаев - Мифологемы закона: право и литература. Монография
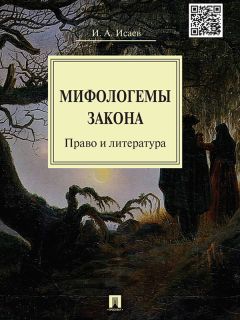
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Мифологемы закона: право и литература. Монография"
Описание и краткое содержание "Мифологемы закона: право и литература. Монография" читать бесплатно онлайн.
Монография профессора И. А. Исаева посвящена, как и предыдущие его работы, одному из аспектов проблемы, давно разрабатываемой автором, – мифологизмам закона. В истории права можно разглядеть множество попыток преодолеть гнет нормативизма. Миф права – не просто реальность более высокого уровня, это еще и эстетически выраженная мечта о справедливости. Право, как и миф, рождается в недрах народного духа – и в этой книге автор обдумывает этот завет особенно внимательно. Работа рассчитана на специалистов в области правоведения, истории, политологии, а также на всех, кто интересуется вопросами правовой культуры и проблемами власти.
Человек, который в античном сознании был объединяющим пунктом для всех внешних влияний, в христианском миросозерцании становится «непонятным и чуждым самому себе». Грек подходил к человеку как бы извне, из сравнения с ним внешних явлений: в своем собственном созданным им образе и выработанных нравственных понятиях он находил опору от своих скитаний и пугающей безбрежности природы. Но эта опора была лишь воображаемой. При всех попытках реализовать ее в реальном или идеальном государстве открывалось неустранимое противоречие этой воображаемой меры с действительностью реального человеческого произвола – и становилось ясным, что государство и индивид могут существовать только при неизбежном нарушении этой меры: «Когда естественная нравственность сделалась условным законом, а родовая община – произвольно устроенным государством, тогда непосредственная жизненная потребность человека обратилась против закона и государства во всем блеске эгоистического произвола». Столкновение между тем, что считалось добрым и правым – государством и законом, – и тем, к чему толкала потребность счастья – личной свободой, – приводило человека к состоянию, в котором он стал непонятен сам себе: тот, кто нуждался в примирении с собою, стал стремиться к искуплению, осуществимому только в вере в сверхмирное существо, в котором закон и государство уничтожались в том смысле, что были предоставлены его неисповедимой воле83.
«Где согласие, там и воля. А там, где воля, там свобода» (Бернард Клервосский). Свобода выбора, как выяснилось, сохраняется и после грехопадения, утрачивается лишь свобода суждения, и поэтому человек не может желать только добра: воля одинаково упорствует как во благе, так и во зле, при этом чудесным образом сохраняя свою цельность. Зато устремленность к истине наталкивается на мнение как субъективное стремление к справедливости, и тогда объективное заменяется субъективным и это порождает споры с богами – ведь они сами часто бывают несправедливы. Но исток неправды лежит в природе и ее темных стихиях, здесь образ вечного Закона колеблется и истекает, нарастает сомнение в его незыблемости. Языческое многообразие угрожает как единству, так и троичности: Ницше принимает это с готовностью, Вагнер пытается еще противодействовать этой трансформации.
Теологи и декретисты XIII в. с грустью констатировали, что «природа человеческая склонна к разногласиям», все еще видя в этой испорченности результат первородного греха. «Идея группы неотступно преследовала средневековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число составляющих ее лиц». По аналогии с теологической терминологией и для противопоставления физическим лицам юристы определяли «фиктивные лица», или корпорации, как «мистические тела». В этой связи само светское государство сумело приобрести известные сакральные черты, представляя себя покровителем индивида. На этом фоне сформировалось еще одно понятие – «политическое тело» – свое происхождение ведущее от Аристотеля84.
Здесь главной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. Обособление считалось большим грехом. Средневековый индивид был опутан сетью обязательств и солидарностей. Свобода как гарантированный статус могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав»85. Бернард Клервосский осуждал разнообразие форм – кажется, приятнее видеть его в мраморе, чем прочесть об этом в книгах, и «если день охотнее проводится, когда любуются этими мелочами, нежели когда думают о божественных заповедях», то многообразие и частности являются в равной мере запретными плодами, ибо взращены на древе действительности и светского знания. Он отвергал готическое смешение святого и светского, т. е. «двойственную истину» и принцип индивидуальности. Полифония делала невозможным нормирование. (Р. Вагнер верил, что христианский рыцарский роман начинает свое существование с неких «живучих остатков трупа старого греческого мифа». Воображение здесь поступало точно так же, как и в мифе: оно соединяло все понятийные явления действительного мира в поэтические образы, индивидуализируя в них сущность целого, и делало их фантастически чудесными. Набор фантазий, как и в мифе, направлялся здесь на отыскание желаемой действительности внешнего мира: «Стремления к похождениям, в которых хотелось осуществить картины фантазии, обращались в страсть к препятствиям, в которых после тысяч раз испытанной бесплодности похождений желанная цель познания внешнего мира – отыскивалась с неослабевающим усердием, направленным на определенную цель»86.)
В «Прорицании провидицы» (тексте, примыкающем к Старшей Эдде) идея неизбежности борьбы между разрушающими и хаотическими силами, носителями которых были враждебные богам чудовища и исполины, и воплощенными в самих богах началами мирового устроения и порядка приводила к неизбежному выводу об итогах этой борьбы – трагической победе разрушительных элементов вечного хаоса над временным господством человеческих повелителей мира, богов (при этом единичные носители разрушения, чудовища и исполины, сами погибают, предварительно истребив богов).
Возвышаясь до понимания несовершенства родных богов, варварское сознание не отступило перед самым страшным выводом – боги осуждались им на смерть. Если они оказались виновными, действуя против правды и добра, – значит у них не было и права сохранять свое место в мире: «Придет день, когда несовершенные, запятнавшие себя виною боги умрут, когда их истребит грозная сила хаоса». Некогда и только временно восторжествовав над этими силами, боги внесли в мир порядок и устроение, но всесильная мировая судьба предуказала тот день и час, когда погибнут прежние победители, недостойные править миром: их место займет рок.
Подобно грекам, древние германцы также имели некоторое представление о некоей единой предвечной силе, властвующей над миром и богами, всемогущей и беспощадной: боги лишь хранят и владеют, правит же миром нечто иное. Это нечто и предустановило жребий богов и борьбу их с истребительными стихийными началами, предустановило ход и исход этой борьбы. Над богами и их противниками, над земным миром и всеми другими мирами стоит судьба. У нее нет имени, нет образа. Это безликая, непознаваемая мировая необходимость, непреложный закон вселенского бытия; для нее безразлично добро и зло, в ней заключено лишь неуклонное осуществление вечных предначертаний, никому неведомых и непостижимых земным разумом87. В мире совершается только то, чего требует вечная необходимость, этот безликий мировой закон. (Закон заключает в себе два вида должного: этически нейтральное с точки зрения теодицеи (поскольку Бог этому не воспрепятствовал) и этически правильное, оцениваемое с точки зрения моральной свободы. Ницшеанское «вечное возвращение» делало закон нейтральным и «техническим», а вагнеровское размышление о «гибели богов» было проникнуто скепсисом в отношении значимости «высшего» закона.)
И Юлиус Эвола, в свою очередь, упрекнул Вагнера за искажение исторических фактов, которые тот включил в свою мифологему. Но для Эволы пафос пробуждения неистовых стихийных сил, которые поэтизировались Вагнером, не являлся основным признаком той «темной» эпохи, эти силы скорее отражали простонародные предрассудки и чужеродные влияния. Сущность же древней традиции, которую чаще всего затрагивают исследователи, была связана с прозрачными и устойчивыми «олимпийскими» смыслами, такими как представления о высшем центре и основополагающем миропорядке, который вполне можно рассматривать как «метафизическую основу имперской идеи». По ту сторону мира становления трагической и стихийной действительности существует порядок, о котором знали еще люди классической античности (уже в императоре Августе древний мир видел и признавал вещую фигуру – показательная связь между его личностью, дельфийским культом света, апологической идеей гиперборейского происхождения и символической фигурой Ореста – как законодателя нового «мужского» права, противостоящего хтоническому миру «матерей» и стихийных сил)88.
Эту же роль играл и символизм Валгаллы и тема «света Севера», обеспечивающей стабильность миропорядка. (А. Тойнби считал одним из главных мотивов варварского мифа борьбу героев с чудовищем, похитившим у людей сокровище, что может представляться «проекцией на внешний мир психологической борьбы, происходившей в душе варвара»: эта борьба начинается, когда варвар из относительно спокойного мира, в котором он жил на границе империи, попадает в шаткий мир, открывшийся ему после прорыва этой границы. Главная слабость варварского этического кодекса состояла в том, что он носил сугубо личный, частный, а не общественный или институциональный характер: «Варвары абсолютно не способны создать устойчивые длительные социальные и политические институты»89). Именно такой эгоцентризм как мотивация и становится разрушительным началом для древнего Закона, закона богов и предков. На его месте рождается кодификация, прием, который расчленяет единый прежде божественный закон на институты и нормы, особые правовые «монады», и одновременно очерчивает правовое поле жесткими границами, сокращая пространство проявления воли и правопонимания. Кроме того, первые кодификации (свободы обычных норм) не могли не носить частного характера: государство было еще не в состоянии соединить их своей единой волей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мифологемы закона: право и литература. Монография"
Книги похожие на "Мифологемы закона: право и литература. Монография" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Исаев - Мифологемы закона: право и литература. Монография"
Отзывы читателей о книге "Мифологемы закона: право и литература. Монография", комментарии и мнения людей о произведении.