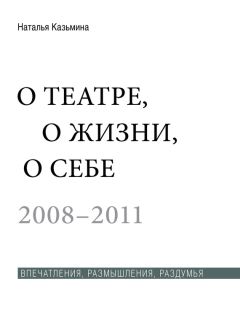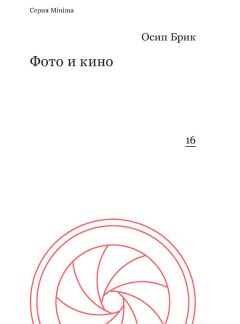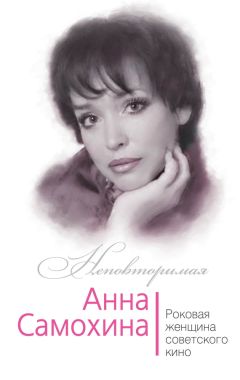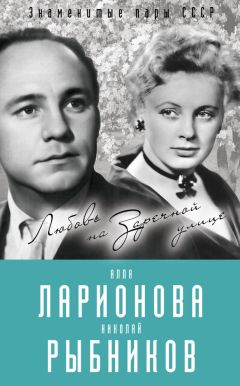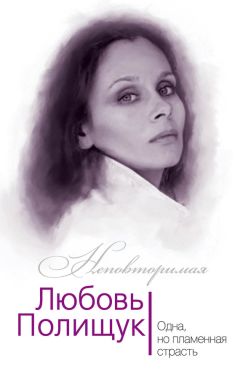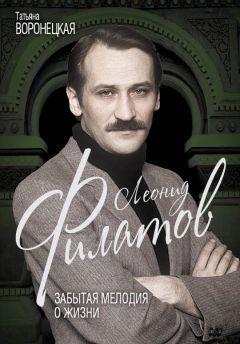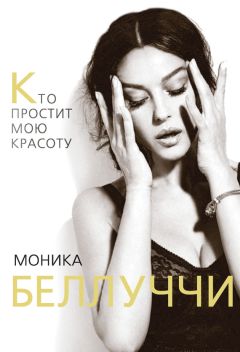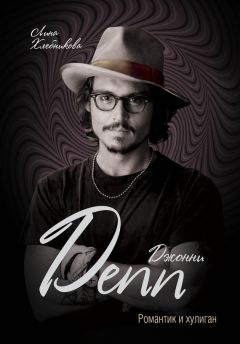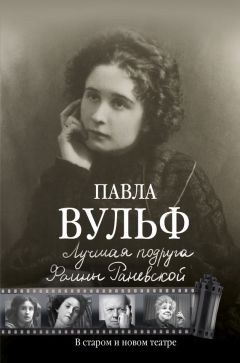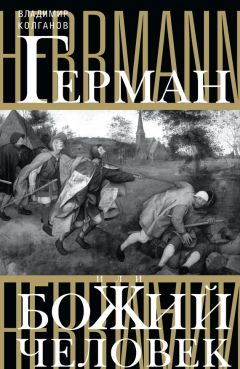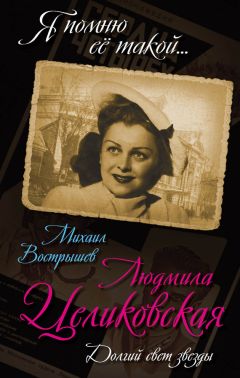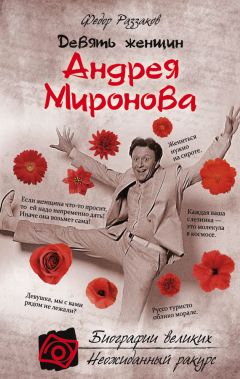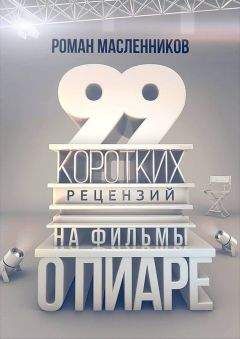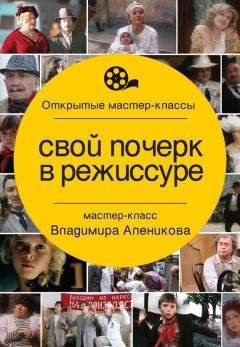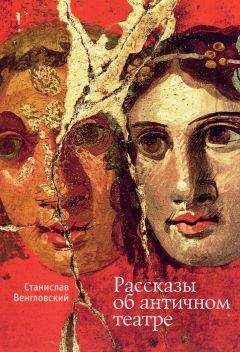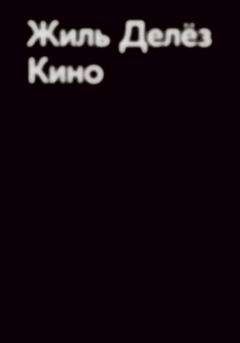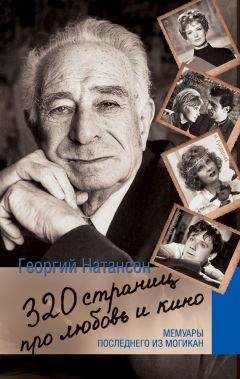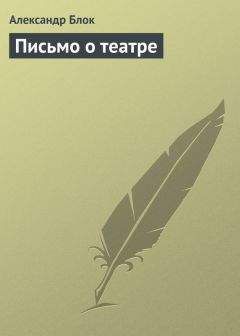Николай Караченцов - Я не ушел

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Я не ушел"
Описание и краткое содержание "Я не ушел" читать бесплатно онлайн.
«“Юнона” и “Авось”», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»… «Собака на сене», «Старший брат», «Человек с бульвара Капуцинов»… Десятки ролей в театре и кино, песни, озвучивание (его голосом говорит Бельмондо)…
Николай Караченцов торопился жить. Он и свои воспоминания записывал торопливо, урывками, на бегу, будто предчувствуя, что может не успеть. Авария, почти месяц комы – и отчаянная попытка вернуться, вновь почувствовать себя Тилем, Резановым, Джонни…
Пришлось заново учиться всему – ходить, говорить, жить. В одиночку это невозможно. Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и партнерша по сцене, сделала все, чтобы ее муж вернулся. Любовь придавала им силы, не позволяла опустить руки и отчаяться.
Рассказы Николая о закулисье «Ленкома» и суете съемочных площадок соседствуют с воспоминаниями Людмилы о месяцах тяжелейшей, мучительной реабилитации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. Караченцов и Поргина впускают зрителя – и читателя – в свой мир, под грим, под маску, которую носит актер. Такого нельзя себе позволять на сцене – только в книге. Это лучший способ сказать: «Я еще здесь. Я не ушел!»
Сколько у нас сегодня «звездунов» в театре? И как поделить между ними этот мир? Кто первый все-таки? А кто – второй? И нужно ли это? Каждый сам по себе индивидуальность, каждый выдающийся, каждый значим и уже, безусловно, мастер. Мало того, его знает вся страна. Кого-то больше, кого-то меньше, но вся страна! Кого-то больше любят, кого-то меньше, но популярных артистов у нас в театре, наверное, больше, чем в каком-либо другом. Наш театр – самый снимающийся на телевидении и в кино. Факт. Основная же популярность сейчас приходит через телеэкран. И ежели у нас в институте, когда я учился, было запрещено сниматься в кино (считалось, что оно портит актера, потом его не переучить), то Захаров никогда не запрещал своим артистам сниматься, шел навстречу, иногда даже в ущерб театру. Если попросить, он всегда отпустит, невзирая на то, что придется заменить артиста в спектакле. Он понимал, насколько эти два вида искусства – театр и кинематограф, – друг друга взаимодополняют. По многим статьям, а не оттого артист снялся в кино и стал популярным. Например, увидят с его именем театральную афишу и придут в «Ленком», чтобы поглазеть на телеидола. Это одна сторона, близкая к экономике. Но есть и другая сторона – профессиональная, овладение иным опытом – опытом кинематографа.
Если артист часто снимается, то учится работать буквально в военно-полевых условиях. С самолета – и сразу же на площадку. Я знаю, другого дня съемочной группе не дадут, и кинорежиссер это понимает. Надо успеть снять, а тут, естественно, в камере что-то заело или пленка в браке. Срочная пересъемка. Поэтому полагается в любую минуту находиться в абсолютной готовности. И кинематограф в таком тренинге сильно помогает. Артист становится раскрепощеннее, свободнее, точнее.
Театр дает иные навыки: скрупулезную, дотошную работу, разработку образа, театр дает возможность набраться опыта ежевечерним выходом на сцену. Это тоже тренаж, но другой. Театр – это лаборатория, театр – это дом, где живешь. Я прихожу в «Ленком», все лица родные, и меня на улице Чехова, ныне Малой Дмитровке, каждая собака знает. В театре, внутри, совершенно другие взаимоотношения, чем снаружи, в мире. В театре мы видим друг друга в репетиционный период некрасивыми. Красавицу актрису, от шарма которой сходят с ума зрители в зрительном зале, мы наблюдаем непривлекательной. Когда у нее не получается, она некрасиво плачет. Она пытается показать кусок, а он у нее становится истеричным, неэстетичным. Но мы вместе, мы через многое проходим. Скорее всего, и я выгляжу ужасно, когда у меня что-то не выходит. Но прежде всего нас видит уродливыми Захаров, и, пока не начинает что-то получаться, мы не хорошеем. Ирония у него невероятная. Без въедливого слова человек жить не может. Если во время репетиции какая-то сцена прошла хорошо или какой-то кусок Захарову понравился, он скажет: «Не будем повторять, и так золотом по мрамору». Чтобы никто на сцене до конца не поверил в гениальность происходящего. Нет бы сказать просто – хорошо. Но все же что-то не очень. Ирония всегда присутствует в любом его разборе. Он про меня немного написал в своей первой книге, во второй, правда, побольше. Написал приблизительно следующее. Мол, я вроде сперва несильно обмолвился, а про Караченцова мне есть что сказать, потому что в одной рецензии Николая Петровича назвали сверхзвездой, потом суперзвездой, потом сверх-сверх, потом супер-суперсверхзвездой. А я считаю, что он просто звезда. Что тут скажешь? Как хочешь, так и понимай.
Московский триумф
Восьмого июля 1981 года вышел спектакль «“Юнона” и “Авось”». Он произвел в столице в некоторой степени фурор. Да чего скрывать, впечатление было такое, будто бомба разорвалась. Двери в театр ломали.
Детально тот июльский день вспомнить трудно. То ли был день сдачи, когда власти принимали спектакль, то ли первый показ, но в памяти остался невероятный колотун, а от него полная прострация. Там перед моим выходом сначала появляется «еретик», которого играл тогда Саша Абдулов, и он кричит: «Граф Николай Петрович Резанов!» Абдулов поворачивается спиной к зрительному залу и указующим перстом тычет наверх, где появляется фигура графа. Я становлюсь в эту графьевую позу, меня ослепляет свет, и я чувствую, что правая коленка у меня ходит в амплитуде где-то сантиметров десять. Она гуляет, а я вроде нормально стою, вроде ничего, не падаю.
Утром в день сдачи Захаров с Вознесенским поехали в храм, освятили три иконки, что тогда выглядело вызывающим поступком, и поставили их на столик в гримерной Лене Шаниной – она играла Кончиту, поставили на столик моей жене Людмиле Поргиной – Люда играла Богоматерь, в программке эта роль была завуалирована как «женщина с младенцем». Боялись, что иначе не пропустят. Восемьдесят первый год, еще Брежнев был жив, глухие советские времена. Третью иконку режиссер и автор принесли ко мне в гримерную.
Как и все непривычное для советского идеологического чиновника, «“Юнона” и “Авось”» всячески тормозилась, и путь к зрителю был нелегок. Был момент, когда Вознесенский с Марком из-за молитвы Богоматери в первом акте «“Юноны” и “Авось”» задумались: «Может, сыграем без антракта?»
Тогда любой спектакль сдавался комиссии. И всегда сдавали по нескольку раз. Не помню случая, чтобы с первого раза приняли. «Тиля» сдавали раз семь. Сто поправок, что-то сумели отстоять, что-то пришлось поменять. Чаще, конечно, приходилось менять. Спорить трудно, сидит комиссия, почти никто не смотрит на сцену, все с карандашами, все что-то пишут, головы вниз – к блокнотам. И так, пока занавес не опустится.
Тут начинаются замечания. «Три женщины в голубом» Петрушевской четыре года сдавали. «Юноной» мы только начали заниматься, тут же нам эту пьесу запретили репетировать, думаю, из-за Андрея Вознесенского. Вышел самиздатовский журнал с его участием, ныне знаменитый, а тогда скандальный, «Метрополь». Если не ошибаюсь, это происходило в самом конце семидесятых, нам сразу же запретили работать с текстом Вознесенского.
Всех, кто входил в число авторов журнала, перестали печатать. Главный редактор – им был Вася Аксенов – просто свалил в США. В редколлегию входили Искандер, Ахмадулина, Битов – всех поприжали. Андрей Андреевич спустя годик как настоящий советский человек-патриот поехал на Северный полюс, написал что-то про путешественника Шпаро, и нам вновь разрешили вернуться к «Юноне».
Что интересно, когда закрыли пьесу, композитор Алеша Рыбников, будучи уже на сносях своим произведением, испугавшийся, что оно не увидит свет, взял и на свой страх и риск записал пластинку с песнями из «Юноны». Естественно, с другими исполнителями. Задача у него была простая: хоть как-то мелодии выпустить в свет. Более того, он сделал презентацию в каком-то православном храме. Причем пригласил на нее пополам патриархию и дипкорпус. После чего даже упоминать о пьесе, в том числе и о тираже пластинки, запретили навсегда. Потом благодаря походу Димы Шпаро на Северный полюс нам вновь дали возможность заниматься «Юноной». А когда спектакль вышел, что произошло года через два, вышла наконец и пластинка. В результате зрители не понимали, что к чему. В восторге от спектакля они бросились раскупать диски с песнями и выяснили, что песни на пластинке ничем не похожи на песни, что они слышали в театре, более того – там другие исполнители.
Объяснять столь запутанную историю долгое время не представлялось возможным, в «Ленкоме» – одно, на пластинке – другое. Мы просто махнули рукой. Но весной 2002 года состоялась специальная съемка спектакля, которая преследовала две цели: одна из них, как я понимаю, высокая – потомкам на века; вторая – вполне земная, чтобы имелись видеокассета, аудиокассета, компакт-диск и чтобы все это продавалось перед спектаклем в фойе театра.
* * *Я убежден, «“Юнона” и “Авось”» никогда бы не появился, не выйди в «Ленкоме» спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Я в нем исполнял роль Смерти. Точнее, сразу две роли: главаря рейнджеров и Смерть. Как уверял меня Рыбников, он писал партии главного героя на меня, но в процессе работы понял, что значительно сложнее, причем абсолютно локально, выстраивается роль Смерти. Молодой Саша Абдулов сыграл Хоакина. А мне куда интереснее было делать Смерть как образ.
«Звезда» – это дебютное освоение нового жанра, это первый спектакль нашего театра, целиком построенный по музыкальным законам. Музыкальная драматургия определяла общую драматургию спектакля.
* * *Как я узнал об идее «Юноны»? «Ленком» – на гастролях в Таллине. В вестибюле гостиницы «Олимпия» я встречаю выходящую из лифта критика Зою Богуславскую, жену поэта Вознесенского: «Андрей пишет на тебя роль». Потом уже Вознесенский мне принес изучать разные книжки с историей графа Резанова, что, конечно, было познавательно и интересно. Так началась работа. В принципе, успех был предопределен, потому что «Ленком» к тому времени стал модным театром, притом с каждым сезоном набирающим силу. Уже состоялся «Тиль», уже ломились на «Звезду», уже захаровский «Ленком» начал говорить о себе во весь голос. Естественно, к театру – пристальный интерес плюс такое имя, как Андрей Вознесенский, плюс потрясающая музыка Алексея Рыбникова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Я не ушел"
Книги похожие на "Я не ушел" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Караченцов - Я не ушел"
Отзывы читателей о книге "Я не ушел", комментарии и мнения людей о произведении.