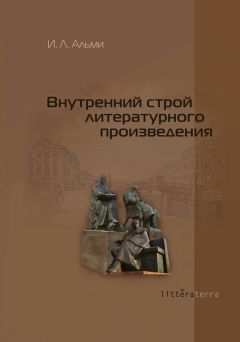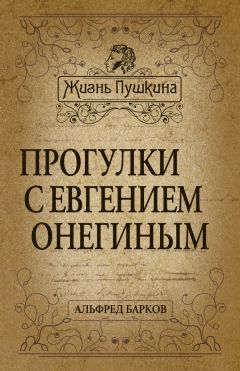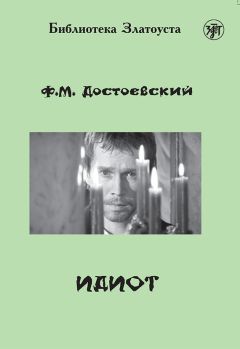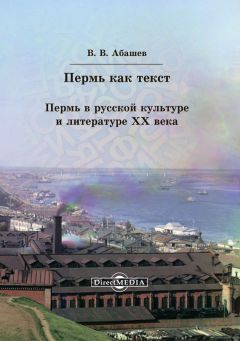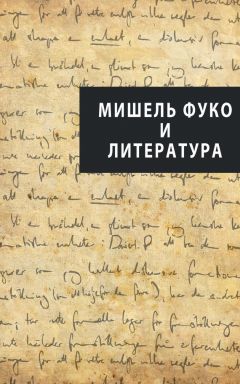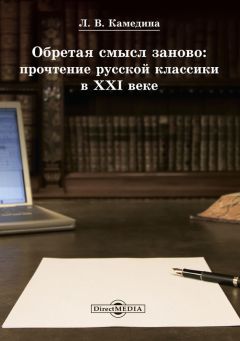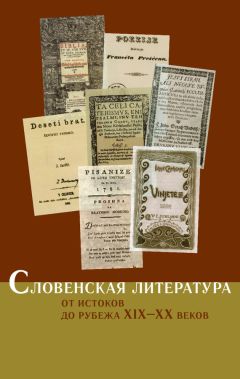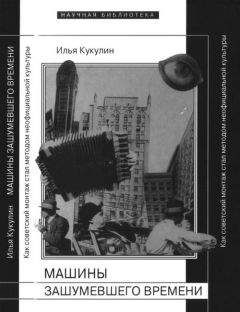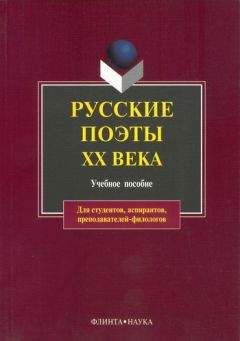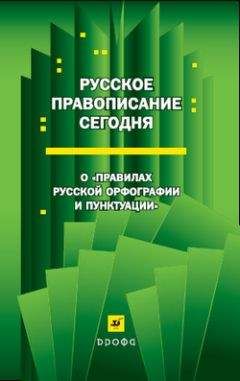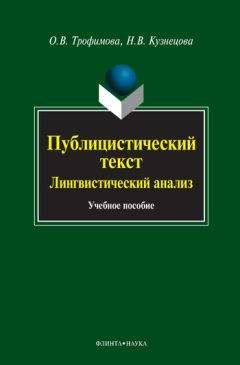Юрий Ладохин - «Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»"
Описание и краткое содержание "«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»" читать бесплатно онлайн.
«Одесский текст». Можно ли таким образом объединить литературные произведения таких ярких и самобытных авторов, как Исаак Бабель, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров? На наш взгляд, вполне возможно и даже необходимо, чтобы исследовать этот, без преувеличения, подлинный феномен русской литературы. За сравнительно небольшой промежуток времени (1924—1928 гг.) эти писатели и поэты стали кумирами читателей, покорив литературный Олимп своим жизнерадостным, «солнечным» стилем.
Затрагивает исследователь и тему контраста между двумя упомянутыми основными книгами И. Бабеля: «Два главных мира бабелевской прозы – Одесса, где орудует Беня Крик со товарищи, и Западная Белоруссия, через которую проходит с боями Конармия, – не просто не схожи, а друг другу противоположны. Обратите внимание, граждане мои и гражданочки, вот на какой момент: конармейские рассказы Бабеля многими признаются за бесспорные шедевры, но как-то в наше время не читаются, да и вообще слава их бледнее на фоне триумфального успеха немногочисленных, общим числом меньше десятка, одесских рассказов про Беню Короля… Да и поставьте наконец эксперимент на себе: как приятно в тысячный раз перечитывать „Одесские рассказы“ и какая мука освежать в памяти „Конармию“, даже самые светлые вещи оттуда вроде „Пана Аполека“! Невозможно же. Ужас. Как сам автор сказал: „И только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло“» [Там же, с. 64 – 65].
Характерно, что обе книги создавались практически в один и тот же период. Но одна была своеобразным искуплением для автора, очевидца и непосредственного участника разудалых подвигов буденовской конницы, а другая – скорее отдушиной и стремлением противопоставить жути гражданской войны знакомый писателю с детства образ «русского Марселя». Об этом – Е. Каракина: «Одесские рассказы, писавшиеся одновременно с „Конармией“, возможно, стали для Бабеля средством психологической защиты. Реальная Одесса, достаточно документально описанная им в очерках „Листки об Одессе“, „Мои листки. Одесса“, станет противоядием, соломинкой, за которую можно ухватиться в водовороте гибнущего мира. Только появится на страницах „Одесских рассказов“ – преображенной. Такой же будет она и в более поздних рассказах. Потому что город 1920 – 1924 годов уже мало походил на столь любимый Бабелем „русский Марсель“. Бабелю пришлось воссоздавать Одессу заново…» [Каракина 2006, с. 158].
Отмечает Е. Каракина и широкое признание литературных достоинств произведений И. Бабеля не только в России, но и за далеко за ее пределами: «Не раз и не два иностранцы, указывая на карту мира, говорили: вот это Европа, это мы знаем, вот здесь – пространства, о которых мы ничего не знаем, а вот здесь, вот эта точка на карте – это Одесса. В Одессе есть Молдаванка, там жил Беня Крик. Слова эти произносятся с самыми разными акцентами – немецким, французским, португальским, даже японским – Бенья Крик и Мол (р) ьтаванка». И глаза у говорящих закатываются, примерно как у тех американцев в «Золотом теленке», когда они мягко произносили грубое слово «перватч»…» [Там же, с. 151].
Особой популярностью книги писателя пользовались в среде зарубежной левой интеллигенции, и Г. Фрейдин излагает свою версию этого факта: «Бабель задавал тон в явном, но чаще подспудном диалоге 1920 – 1930-х годов о понятиях «национальное» и «социалистическое». Сам же диалог был ничем иным, как советской итерацией старой российской контроверзы славянофилов и западников, которая в свою очередь была отголоском обиды отсталых немцев на преуспевших в науке и индустрии французов и англичан… Для Бабеля, по убеждениям – толстовца с левым уклоном («Начало», 1937), как и для его покровителя и «предтечи» Максима Горького («Одесса. Мои листки», 1916), вопрос о «третьем пути» России не стоял вообще, а социализм означал форму содержания европейской культуры («как это делалось в Европе»). Иными словами, социализм был понятием, которое определенным образом членило мир и тем самым утверждало необходимость замены русской «сохи», дикой как по форме, так и по содержанию, на «плуг» модернизации, европейского просвещения и гуманизма, очищенной от грязи стяжательства (как понимался тогда капитализм – паразит на теле научно-технического и социального прогресса человечества)» [Фрейдин 2011, с. 22].
Но перейдем ко второму «дуэлянту». Оказывается, еще не факт, что он сможет участвовать в этом поединке, причем по двум весьма уважительным причинам. Во-первых, из-за временного диссонанса с основными участниками дуэли: «Олеша – писатель будущего. Века этак XXII, если тогда еще будут литераторы. Литераторы будущего станут писать мало и емко, потому что тенденция к экономной передаче действительно важной информации – одна из ведущих в человеческой истории. Малозначительное учатся размазывать на гигабайты, на тысячи страниц, а главное сообщают лаконичнее» [Быков 2014, с. 121]. Во-вторых, участие в дуэли подразумевает наличие определенной степени задиристости и спортивной злости, а «… Олеша, подобно злобному мальчику из „Снежной королевы“ Андерсена, соорудил для себя ехидное кривое зеркало, которое вытянуло из него „ростки“ плохого и черного, вырастило их, и получился Кавалеров» [Подольский 2014, с. 76] (примеч., Кавалеров – один из главных героев романа «Зависть»).
Так что же, зрелища с участием Ю. Олеши нам так не увидеть? Но подождите расстраиваться… Забыли, что любимый герой писателя – циркач, канатоходец Тибул из «Трех толстяков»? Жонглирование словами, оптические трюки опытного иллюзиониста – для автора это не только привычная писательская техника, но и воплощаемая в текст эстетика импрессионизма: «А я стараюсь заглянуть даже в зеркальный шкаф, который грузят на платформу. Поднимаясь на носки, заглядываю, – это зеркало улетает, – стремительно возносится дом, фонарь, – и я успеваю поймать свое улетающее в синеву лицо» [см. Спивак-Лаврова 2014, с. 136] – это ли не зрелище для Ю. Олеши, это ли не оптический эффект? И еще: «„По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути“, „голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы“» [Там же, с.133].
Но словесной эквилибристикой и оптическими эффектами дело не ограничивается. Никто, видимо, и не предполагал, что некоторые литературные приемы Ю. Олеши в какой-то мере предвосхитят эксперименты Джеймса Вайкери в 1957 году в кинотеатрах Нью-Джерси по разработке методики воздействия на людское восприятие посредством вставки в череду картинок скрытой информации в виде дополнительных кадров.
Вот что происходит в «Зависти» с образом Андрея Бабичева, строящего гигантскую фабрику-кухню, где каждый трудящийся сможет получить сытный калорийный обед за двадцать пять копеек: «Сначала мы узнаем, что ему тесно в уборной и он трется спиной о дверь кабинки. К концу первой страницы выясняется, что «в нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди». На второй странице: «Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы». Следующая страница: «Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осоловелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу… Крра… кА… тоууу…”. Подобные наблюдения не собраны в одном месте, а разбросаны по всему тексту. Получается нечто похожее на эффект двадцать пятого кадра, и читатель не всегда понимает, почему «правильный» герой постепенно становится противным. Через несколько лет после Олеши сходный художественный прием начнет примнять восходящая звезда американской литературы Уильям Фолкнер. В своих романах он положительных героев описывает портретно, а отрицательных – через постепенное накопление деталей, словно изучая повадки странных животных…» [Подольский 2014, с. 71].
Теперь – более развернуто о «дублерах» наших бесстрашных дуэлянтов. Первый (В. Катаев), безусловно, искушенный поединщик, но вкралось подозрение, не будет ли здесь нарушен основной принцип дуэльной кодекса графа де Шатовильяра (1836 год) – решить недоразумение между отдельными членами дворянского сообщества, не прибегая к посторонней помощи? Помощников сразу двое, и какие имена: автор античных эпосов «Илиада» и «Одиссея», и писатель-эмигрант, создатель романов «Дар» и «Приглашение на казнь»!
Помощник номер один появляется, вы не поверите, на страницах романа-хроники «Время, вперед!», рассказывающем о строителях крупнейшего объекта первой пятилетки – Магнитогорского металлургического комбината: «„Бетономешалка стоит на новом высоком помосте у самой стены тепляка, – как раз против пятой батареи. Стена тепляка в этом месте разобрана. Видна громадная, гулкая, тенистая внутренность. Туда, в прорву, будут подавать бетон“. Да ведь это же описание Троянского коня у легкомысленно разобранной троянской стены. Что за глава? XXXVIII! Предшествующая той, где Катаев впрямую назовет строительство Троей. Кто же хитроумный Одиссей, управляющий бетономешалкой – Троянским конем? Конечно, Маргулиес (получающий в финале катаевской Илиады-Одиссеи свою персональную Пенелопу» [Кудрин 2013, с. 36].
Многие, даже симпатизирующие Катаеву современники называли опубликованный в 1932 году роман о Магнитострое не более чем качественной агиткой и началом творческой капитуляции писателя перед Советской властью, но отмеченные О. Кудриным фонетические ассоциации автора заставляют усомниться в столь категоричном выводе: «Получается, что во всем РЕКОРДном социалистическом сТРОИтельстве звукообразом заключена – Троя. Град, обреченный на героическое, но поражение: сТроя, сТрою, сТрои (м). А, скажем, главные слова романа «строитель», «строители» вовсе раскладываются на передовую (и для 1932 года все еще) футуристическую, но по-катаевски ироничную, злую рифму: «С Трои? Те ль?» «С Трои? Те ли?» (Сравните с Маяковским: «безобразие» – «рази я» – «Азия»)» [Там же, с. 36].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»"
Книги похожие на "«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Ладохин - «Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»"
Отзывы читателей о книге "«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»", комментарии и мнения людей о произведении.