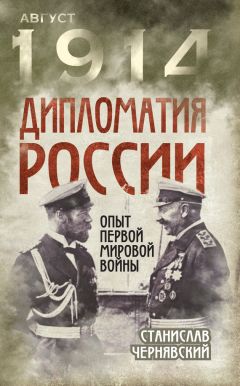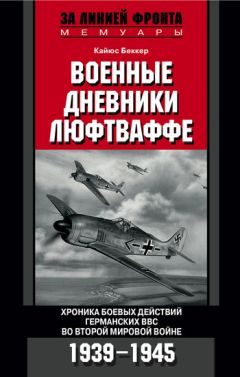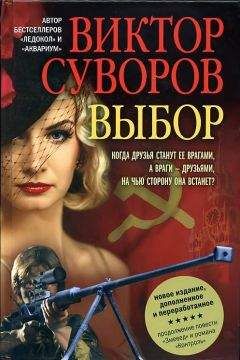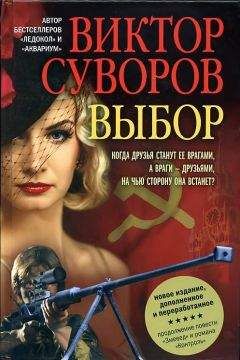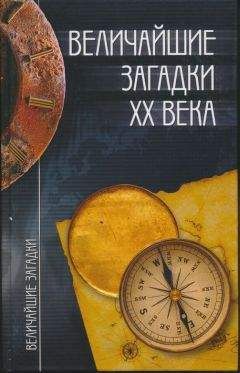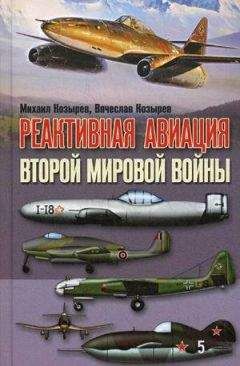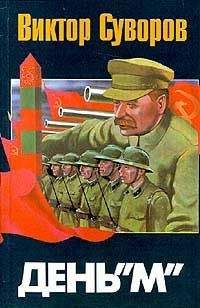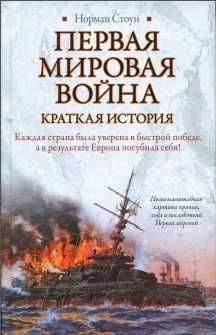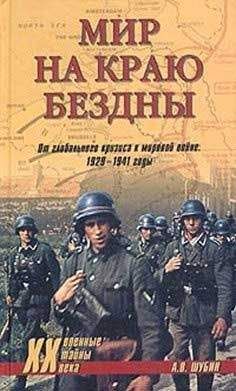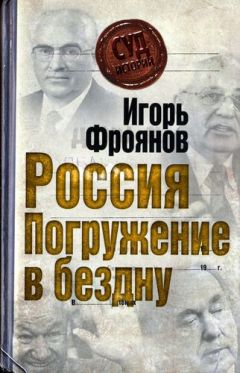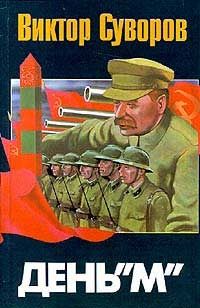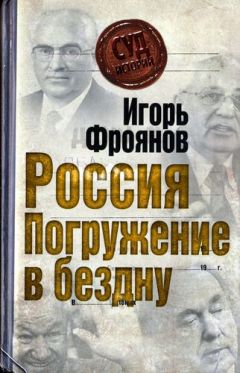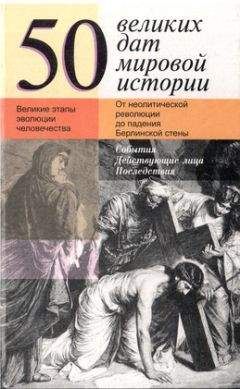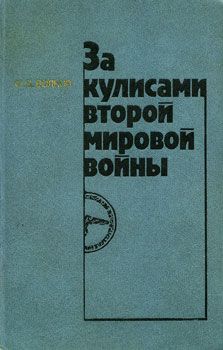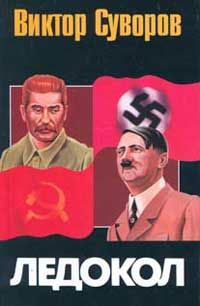Виктор Сиротин - Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории
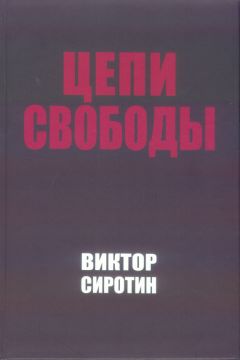
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории"
Описание и краткое содержание "Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории" читать бесплатно онлайн.
В книге «Цепи свободы» В. И. Сиротин даёт своё видение «давно известных и хорошо изученных» событий и фактов. По ряду причин он ставит под сомнение начало и причины II Мировой войны, даёт и обосновывает свою версию «Малой II Мировой», начавшейся, как он считает, в 1933 г. Развенчивая ряд мифов XX в., доказывает, что развитие «новой мифологии» привело к внеэволюционному изменению векторов мировой истории, вследствие чего дробятся великие культуры и стираются малые. Автор убеждает нас, что создание цивилизации однообразия и «культурного потребления» входит в задачу Глобализации, уничтожающей в человеке личность, а в обществе – человека.
Каково происхождение этих болезней и отчего перерастают они в эпидемии? Почему столь устойчивы и в чём причина их неослабевающего деморализующего влияния?
С древнейших времён человек утвердил себя во мнении, что способен сам решать весь комплекс «земных» проблем. И совершенно напрасно решил так. Поскольку «справедливые решения» существуют лишь в воображении и в идеальных, а потому не существующих законах.
Всегда относительные правила, созданные человеком в разных цивилизационных парадигмах, замыкаются в пределах его природы, что с точки зрения абсолюта как раз и гарантирует нерешаемость проблем. Ибо если природа человека первична по отношению к свободе воли, то создаётся совершенно тупиковая ситуация. Её и обозначил (не для себя, вообще-то) в доступной форме мировой буян Михаил Бакунин. Он считал: «если Бог существует, то у человека нет свободы, он – раб; но если человек может и должен быть свободен, то значит, Бога нет». Впрочем, подчиняя свой дух и волю чему-то высшему, нужно ещё быть уверенным, что речь действительно идёт о Боге, а не о фантоме, или о чём-нибудь похуже. Увы, чем больше ломали голову над этими вопросами мыслители и штатные богословы, тем меньше в них оставалось ясности…
Эхо Французской революции, некогда прокатившись в Европе, дробясь и приобретая новое звучание в отдалённых регионах, рокотало по просторам и остального мира. Вдогонку ему неслись буржуазные и социальные реформы. Вкусив с древа технического прогресса «плод» потребительских удобств, человек на них и зациклился. В этих условиях «предоставленный самому себе, – пишет С. Левицкий о повреждении общественного сознания, – лишённый верховного руководства разумом, рассудок приводит к знанию, без понимания, к достижению без постижения»[20]. Из-за недооценки или непонимания внутреннего единства духа и материи, при котором «дух» первичен, и возникали «спасительные» решения социального устроения общества.
К примеру, «безземельник» Герберт Спенсер, а за ним и Лев Толстой склонялись к понятной только им модели социализма, тогда ещё не «с человеческим» и не с «социалистическим лицом», а с выведенным Чарльзом Дарвиным – обезьяньим. Впрочем, и в лохматом четырёхруком виде оно немногим отличалось от последующего социалистического или коммунистического «лица». Если говорить о «человеческом» социализме в его некоррумпированной ипостаси, то это, пожалуй, и будет христианская модель в действии (или околодействии – это под каким углом глядеть). Это, когда ни у кого ничего нет, но ничего ни у кого и не должно быть. Что касается Бакунина, то ему доверять не будем, тем более что в своих политических инсинуациях мировой анархист договаривался до поразительных, по своей убийственности, выводов: если есть Михаил Бакунин свобода, значит, нет Бога; или: «страсть к разрушению – творческая страсть». И это при том, что творчество (исходящее от позитивной духовности, а не от разрушительной) есть один из синонимов и даже принципов созидания.
Очевидно, причину социальных болезней нужно искать в разложении веками создаваемых социальных и духовных устоев общества. Тех, на которых стоит народ, зиждется страна и функционирует государство. Испытанные временем, именно они легли в основу закона. Последний, сосредоточивая в себе и систематизируя многовековой опыт, скреплял державной печатью всё наиболее рациональное, справедливое и жизнеустойчивое, помогая выживать народу, нации и человеческой культуре в целом. Потому сокрушение именно этих основ являлось приоритетной задачей тех, кому эти устои были ненавистны.
Не заглядывая в слишком уж далёкое прошлое, затрону лишь финальную часть великого перелома. Его определила просвещенческая мысль Нового времени, вызвавшая Великую Французскую революцию и исторически не менее важную революцию в Северной Америке. Вместе с тем, имея общий источник и будучи детищем того же исторического времени, – эти параллельные революции разнятся в своём существе.
«Великая», поправ авторитет помазанника Божьего и свергнув с пьедестала верховную власть, сорвала с цепи самые низменные инстинкты народа, в результате чего он в одночасье оказался беспризорным, а в исторической перспективе преданным и осквернённым. Тогда как, «американская», изначально обезопасив себя от монарших проблем и института аристократии, – озаботилась созданием демократического общества на принципиально иных основах. После победы над Югом, ослепнув от раскрывшихся исторических перспектив, объединённые Штаты самопроизвольно взяли на себя роль мирового поводыря. Политические метаморфозы выразили себя в том, что поначалу неверная «клюка» пилигримов со временем превратилась в далеко достающую полицейскую дубину, исправно расчищающую дорогу геополитическим интересам США. Причём, реализация этих «интересов» происходила вне опоры на какие бы то ни было исторические традиции (протестантство не в счёт, ибо оно опиралось на узко-конфессиональные принципы, отнюдь не противоречившие «американским» интересам). Весь перенятый у Европы опыт государственной жизни состоял в принципиальном отказе от культурно-исторического прошлого европейских стран, под чем, однако, не следует понимать технические и утилитарно-бытовые ценности (вплоть до I Мировой войны они оставались приоритетными в быту и сознании американцев). И если Европа едва ли не на всём протяжении XIX в. ярилась революционными знамёнами, то развитие Дикого Запада (США) в это время было отмечено постепенным переходом традиционных форм рабовладения в «более приемлемые», слегка облагороженные патиной либерально-демократических реформ и преобразований.
Вся последующая история и «дикого» и не дикого Запада, вступив в XX в. и переступив порог XXI столетия, являет собой историю охлократического падения традиций, морали и нравов, нашедшую опору в законе и, что много хуже, – в сознании людей.
При всей продвинутости социального устройства, основанного на приоритете утилитарных категорий, фригийский колпак мясников Великой Французской революции не был сорван с глав либеральных и демократических правительств. Не изъятый из сознания мегаполисов и не выброшенный на свалку истории, он, за ветхостью времён полинялый, истёртый и покрывшийся дырами, – продолжал оставаться знаменем «братства» безграничных свобод и «равенства» в их пороках. В то время как ревнители нравственности в викторианскую эпоху драпировали ножки роялей, дабы никому в голову не приходили мысли об оголённых ножках, – в странах и Старого и Нового Света наряду с чёрными невольниками продавались цветные и даже белые рабы, в число которых входили женщины и дети. На рубеже XIX–XX вв. центром торговли «белыми рабами» считался ещё вчера революционный Париж, теперь прозванный новым Вавилоном.
Французский живописец Эжен Делакруа как в воду глядел, когда в своей картине «вручил» знамя Свободы полуобнажённой мадам. Даже и под кистью гения не избавившись от вульгарности, она чрезвычайно живописно олицетворяет собой революционно-уличную истерию[22]. Такого рода «свободы» символической цепью охватили многие государства Европы. С каждым бунтом всё больше обнажаясь и распространяя проказу хаоса и вседозволенности, они к концу XIX в. заявили о себе общеевропейской проказой, с тем, чтобы в начале следующего века покрыть мир трупами миллионов. Багровея от «прогрессивных веяний времени», всё откровеннее освобождающих «тело» народа от морали и нравственности, болезни века напоминают о себе едва ли не при всяком движении социального организма. И становится ясно, что проказа вседозволенности, смертельная для жизни всякого общества и любого народа, распространяется по мере прогрессивной деформации личностных качеству отживания индивидуальных особенностей человека и утери исторического своеобразия наций и народов.
Казалось бы, зачем так мрачно? Опасность вышеупомянутых «недостатков» хорошо известна обществу, уяснена и изучена «властителями дум». Обеспокоенные формами неврастении, они давным-давно начали бить тревогу. К примеру, французские писатели ещё в середине XIX в. выступали в печати, негодуя на падение нравов, принявшее характер массового отлучения от овеянных сединой веков обычаев и традиций. Впрочем, бывало всякое. Если, скажем, Генриху Гейне революционное разрушение классических и нравственных ценностей казалось недостаточным, то Жюль Мишле и Пьер Прудон находили их чрезмерными.
Разнобой мнений объяснялся не столько убеждениями, сколько характером общественно значимых людей или «личностей на слуху», которые до известной степени определяли общественное мнение. В какой-то мере влияя и на стиль жизни, люди эти не всегда могли служить для молодёжи хорошим примером. Так, разночинец Гейне всю жизнь мечтал пробиться в «благородное сословие», но это ему не удалось и он люто возненавидел аристократов. Историк Мишле, родившийся, как он любил напоминать, в «крестьянской семье» (но, всё же, предпочитавший жить в скромном старинном замке), был твёрдым клерикалом. По его убеждениям краеугольным камнем храма (сказывалась-таки каменная обитель!) и фундаментом гражданской общины должен быть семейный очаг. Социалист и теоретик анархизма Прудон, по Герцену, – «один из величайших мыслителей нашего века», по своему происхождению был крестьянин. Но это, ничуть не мешая ему провозглашать свободу без очевидных границ, каким-то образом удерживало его в рамках крайней патриархальности. Отсюда неприятие им женской эмансипации.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории"
Книги похожие на "Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Сиротин - Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории"
Отзывы читателей о книге "Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории", комментарии и мнения людей о произведении.