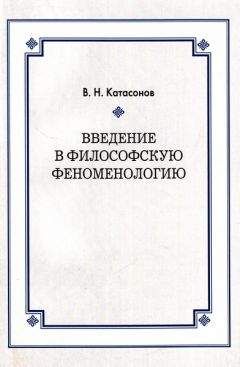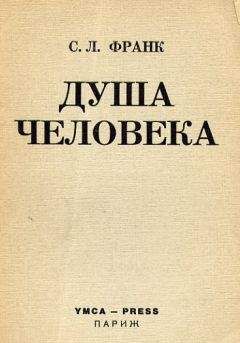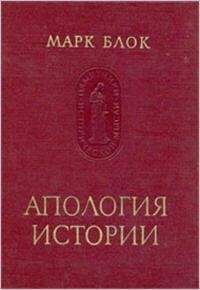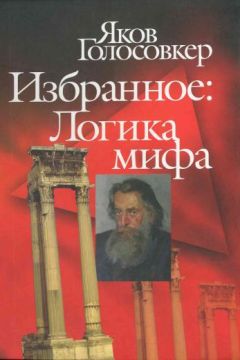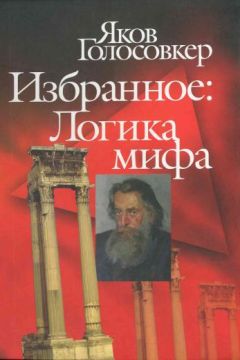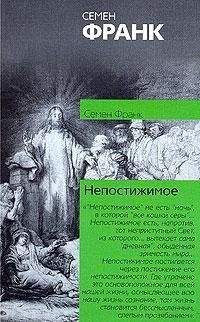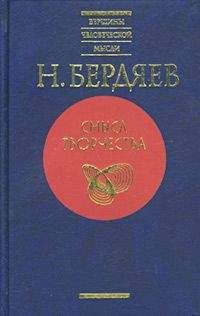Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты
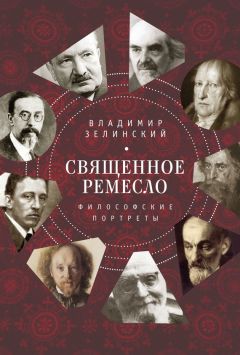
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Священное ремесло. Философские портреты"
Описание и краткое содержание "Священное ремесло. Философские портреты" читать бесплатно онлайн.
«Священное ремесло» – книга, составленная из текстов, написанных на протяжении 45 лет. Они посвящены великим мыслителям и поэтам XX столетия, таким как Вячеслав Иванов, Михаил Гершензон, Александр Блок, Семен Франк, Николай Бердяев, Яков Голосовкер, Мартин Хайдеггер и др. Они были отмечены разными призваниями и дарами, но встретившись в пространстве книги, они по воле автора сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, явно или неявно живущей в притяжении Бога. Философские портреты – не сумма литературоведческих экскурсов, но поиск богословия культуры в лицах.
Оба говорят о грехе; Иванов даже зовет к принципиальному отречению от грехопадения культуры («Ибо для верующего его вера по существу отдельна от культуры…» Письмо V), но Гершензон твердит о нем тем невысказанным, для которого любые умозрительные слова (в том числе о грехе) должны находиться под запретом. Грех он исповедует болью совести или, как говорит Экклезиаст, «томлением духа». (Это образованная совесть рассудительна; примитивная же, древняя совесть почти безъязыка, она объясняется скорее мычанием). И вот едва ли не мычанием, какой-то кручиной, которая не находит верных и точных слов, Гершензон доносит до нас гнетущую мысль собственной совести. Возьмем на себя смелость перевести эту мысль изречением любимого им Гераклита: «Многознание уму не научает». Не научает уму, не очищает сердца, не делает более свободным и зрячим в мире. И прежде всего не научает быть личностью, т. е. не соединяет человека с тем сокрытым в нем началом, с той тайной его самого, где только и хранится его подлинное, сотворенное для вечности «я». А что есть мировая культура, как не накопленное и навязанное нам знание? Гершензон жалуется не столько на ученость свою, сколько на внутреннюю тесноту своего «я», на его изношенность и закрытость. Многознание закрыло от него какую-то личную правду, которая была ему нужна, или волю, по которой он тосковал; в давке разного рода сведений заглохло то единственное, настоящее, плодоносящее знание, которое в нем пробивалось.
«Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, – говорит он, – ив придачу еще те, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее как летнее утро» (Письмо IV).
Он не верит и в веру: «она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна» (Письмо VI). Над личной – «только моей» – верой клубятся отвлеченные ценности: «громады Богословия, Религии, Церкви» (Письмо VIII). Не верит, но хочет прямого – не опосредованного формулами, не искаженного чужой мыслью (и потому «не-мыслимого») ведения Бога, хочет быть один на один, с глазу на глаз, и тем самым неизбежно остается вне веры, с «религиозным чувством». Но оно столь живо, молодо, сильно, что оказывается в чем-то убедительней теплой, «многознающей» веры Вячеслава Иванова, и тот это чувствует.
В признаниях своего корреспондента Иванов слышит свое, знакомое: соблазн отречения, беспамятное бегство, интеллигентское опрощение. Он подозревает, что идеал Гершензона «есть инстинкт с его имманентной телеологией» (Письмо IX). Многознание отличается домовитым пристрастием к порядку; все должно лежать по местам в его большом ученом хозяйстве. Но за этим пристрастием – тот же инстинкт внутренней целесообразности: те доводы или те «символы сердца», которые у Иванова служат для оправдания культуры – метафизическое достоинство личности, живая историческая память, смысл истории, «посвящения отцов», – все они также слагаются в созерцании некоего порядка идей, и если взглянуть на него издали как на единое целое, ему не откажешь ни в строгости, ни в красоте.
Культура предстанет этому взгляду в виде иерархического строя символов, соответствующих первореальности или пути к ее постижению, на котором все более ясным и творческим для Вячеслава Иванова становится «самосознание человека как «забытого и себя забывшего бога» (Письмо XI). Смысл культуры, как можно разгадать его по Иванову (именно смысл, а не видимое существование ее в произведениях искусства или философии) есть воплощение мысли Творца или самой божественной жизни в символе, способном – как верит художник – ее вместить и выразить. И потому настоящее творчество – в конечном счете всегда обращенное к Богу – понимается Ивановым как движение вглубь или скорее как «…духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. Довольно выйти в дорогу, найти тропу, остальное приложится само собой» (Письмо V).
Тропа Вячеслава Иванова – то единственное «ознаменование», что ведет от зримого к подлинному, – подымается круто вверх. Образ или мотив этого движения постоянно мелькает в его письмах. «Весь смысл моих к вам речей есть утверждение вертикальной линии, могущей быть проведенной из любой точки, из любого «угла», лежащего в поверхности какой бы то ни было, молодой или дряхлой культуры» (Письмо VII).
«На каждом месте, – опять повторяю и свидетельствую, Вефиль и лестница Иакова…» (Письмо XI).
Для вас культура – «система тончайших принуждений», – пишет он Гершензону уже в Третьем письме, «для меня же она – лестница Эроса и иерархия благоговений».
«Лестница Эроса». О ней в платоновском Пире Сократ приводит рассказ мудрой Диотимы. Эрот, сын Пороса и Пении, обитает где-то посередине между богами и людьми. Он – посредник между ними. Внушая людям любовь к прекрасному, он ведет их от созерцания красоты чувственных вещей к созерцанию чистого и высшего блага. И тот, кто восходит к этому созерцанию, рождает и истинную добродетель, и ему достается удел богов – бессмертие.
Между тем, имя Диотимы было для Вячеслава Иванова ознаменованием любви. Это было домашнее имя Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. Затем оно как бы по наследству перешло к Вере, дочери умершей Лидии, ставшей женой Вячеслава и внезапно скончавшейся в 30 лет через несколько дней после выхода Иванова из здравницы.
VIЕсли Переписка из двух углов не окаменела для нас, не стала одной из литературных реликвий, это случилось благодаря тому, что спор о культуре стал состязанием двух видов любви. У Иванова за его апологией и символикой – «иерархия благоговений», которую ощущаешь за всеми его ассоциациями и образами. Он благоговеет перед собранным до него и в нем отложившемся богатстве посвящений, в котором личное сливается с коллективным, соборным, запечатленным в иконах прошлого. Он живет в восхищенной памяти о культуре как на обетованной земле. «На каждом месте… повторяю и свидетельствую – Вефиль и лестница Иакова» (Письмо XI). Но лестница Иакова, упираясь в землю, подымается к небу, которое возвещает о себе через икону. Небо не принадлежит лишь художнику, находящему для него символы; оно пронизывает собой все творение. Культура становится подлинным посвящением – так я понимаю Иванова – когда прикасается к свету неба и удерживает его в себе.
Этот свет открывается любовью, которая находит его внутри и вне человека, как его начало и средоточие. «Любовью человек исполняет естественный закон, – говорит Гершензон, – ибо любовью «я» растворяется в «не-я» (Тройственный образ совершенства). В ее свете (пусть лишь едва мерцающем для наших глаз) – центр его личности и, стало быть, творчества. Иванов ощущает его в себе неким пришельцем, «светлым гостем» бессмертия. «Этот гость недаром посетил меня, – пишет он в самом начале Переписки, – и во мне «обитель сотворил». Цель его, думается мне, одарить гостеприимца непонятным моему рассудку бессмертием. Моя личность бессмертна…», – потому – осмелимся мы добавить – что двигательное начало, тайну ее составляет любовь как «инициация посвящений», накопленных памятью. Но Гершензон ощущает эту светлую тайну иначе – как недостижимую родину, огражденную со всех сторон чужими «знаниями» и «культурой». Ему все время хочется перебраться через эту ограду и вернуться на совсем другую обетованную землю, которую он смутно различает, но хорошо чувствует. Издали он почти видит ее долины, почти вдыхает ее запахи, он как бы уже касается, осязает ее – любовью. Удача этой книжицы в том, что мы готовы поверить и той и другой любви и следовать за обеими.
«Две любви создали два града», – приводит Вячеслав Иванов слова блаженного Августина в эпиграфе к своей поэме Человек. Но два размышления о любви и создали два пути человека к самому себе. Один из них ведет к утопии здешнего града, построенного из символов, указующих на пока непонятное небо, другой движется к утопии духовного освобождения и раскрепощения, достигаемого ценой отказа или бегства от символов и «инициаций». Культура, полнота которой в этом споре неимоверно возрастает, едва ли не отождествляясь со всяким проявлением нашего разума и духа, в данном случае есть только внешняя тема спора; его суть, ядро – это обретение личности перед Богом. Культура есть только «поле битвы», где решается вопрос о том, как личное может вновь стать глубоко интимным и в то же время восприниматься как всеобщее, но тем самым – и как Божие; ведь Богу принадлежит самое интимное и глубокое в человеке. И как человек во всяком своем проявлении – благодаря культуре или вопреки ей – может узнать, по словам обоих корреспондентов, подобно Марии, «заодно и Свое дитя, и Бога» (Письма X, XI).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Священное ремесло. Философские портреты"
Книги похожие на "Священное ремесло. Философские портреты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты"
Отзывы читателей о книге "Священное ремесло. Философские портреты", комментарии и мнения людей о произведении.