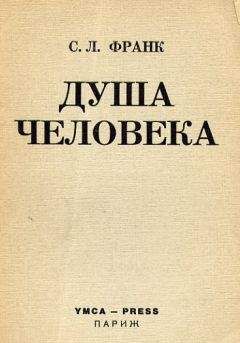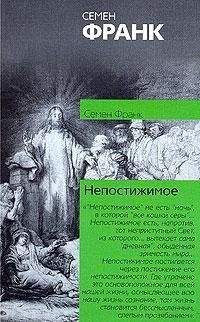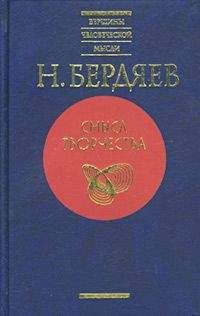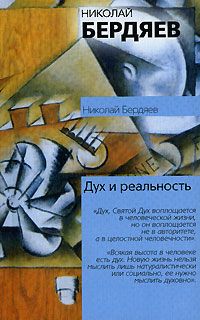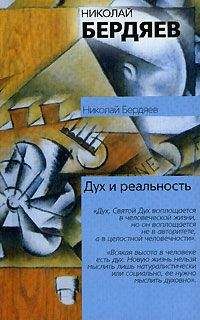Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты
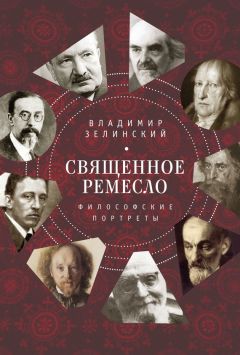
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Священное ремесло. Философские портреты"
Описание и краткое содержание "Священное ремесло. Философские портреты" читать бесплатно онлайн.
«Священное ремесло» – книга, составленная из текстов, написанных на протяжении 45 лет. Они посвящены великим мыслителям и поэтам XX столетия, таким как Вячеслав Иванов, Михаил Гершензон, Александр Блок, Семен Франк, Николай Бердяев, Яков Голосовкер, Мартин Хайдеггер и др. Они были отмечены разными призваниями и дарами, но встретившись в пространстве книги, они по воле автора сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, явно или неявно живущей в притяжении Бога. Философские портреты – не сумма литературоведческих экскурсов, но поиск богословия культуры в лицах.
Много тугих мысленных волокон пронизывают Ваши письма, но нигде они не связываются в узлы, остаются разобщенными, пребывая в каком-то уникальном, беспорядочном и все же по-своему гармоничном переплетении. Причем не в идеях только, но и в мыслях, интуициях, в Ваших, только Вам ведомых, «беседах» с Богом. Этот и по сей день нераспутанный клубок, где Россия и Европа ведут свой спор не только в истории, но и в теории познания, где западное начало (познание Бога разумом) и восточное (внимание Слову, данному при творении) противостоят друг другу и сливаются в одно неделимое целое. Такова судьба всей мыслящей послепетровской России, в которой Запад, как напишет Мандельштам, иногда становится «сгущеннее, конкретней самого исторического Запада»[35]. Две любви сотворили два града, припомним слова бл. Августина, у Вас же тот град, который сотворила любовь к родине, то и дело ссорится с градом любви к истине, и почти вся последующая русская мысль с той поры окажется вовлеченной в этот конфликт. Но для Вас оба эти града суть предместья Божьего Царства, мерцающего за их стенами.
Да приидет Царствие Твое, – часто, даже в письмах к друзьям Вы цитируете слова молитвы Господней. И останавливаетесь на их пороге. Но откуда оно приидет? В каком облике явится? Станет ли оно завершением земной истории, которая пролагает путь в людях, повинующихся Промыслу и Божественному закону, как полагали Вы? А что если люди вдруг возьмут и изобретут свой собственный промысел и в манифесте о том объявят, и массами овладеют, и погонят их штурмовать само Небо? Идея Царства Божия на земле всегда скользит по краю пропасти, а в России однажды – Бог сохранит Вас увидеть это – она сорвется в багровый мираж. «Есть великая славянская мечта о прекращении истории», – писал Мандельштам в статье Чаадаев, и, возможно, симулякр Царства Божия на земле со слиянием (принудительным) всех душ человеческих в одну[36], и явился у нас еще одной попыткой ее, истории, прекращения. Мечта воплотится в утопию, подожжет полмира, но потом сдуется, осядет, рухнет, рассыплется, уступив место видению ушедшего на дно царства, откуда нас когда-то изгнали, но куда мы вернемся под расписными парусами плывущих вспять истории кораблей.
«Мое пламеннейшее желание, – писали Вы Пушкину в 1831 году, – видеть Вас посвященным в тайну времени». Откройте же нам Вы, тайнозритель, где спрятана эта тайна? В том, что «река времен в своем теченьи»[37] впадает в Божие Царство, и русло ее проложено не где-нибудь там, а в России? Вы лишь едва коснулись ее, но, коснувшись, задели струну, которая надсадным пением своим зовет, молит, требует эту тайну разгадывать. Не умом, не статьями разгадывать, а Востоком и Западом, спорящими внутри нас. И уже два века почти, как разгадывать, Петр Яковлевич, вместе с Вами, коль скоро вольно или невольно, Вы первый и начали тот разговор.
2016
О музыке и смерти
(Александр Блок)
Присутствие Блока начинается во мне с непроизвольной пушкинской ноты, с отзвука «веселого имени» или ритма, невзначай просыпающегося в памяти. Словно гармония в истоке едина и нерасчленима, самое сокровенное в ней есть всегда и самое близкое. Судьба и тема одного поэта могут преломиться в звучании другого, словно выплыть из неразличимой глубины. Нередко я пытаюсь разгадать их в каком-нибудь, как бы случайно возникшем мотиве.
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума;
Нет, лучше труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы дерзко я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы счастья полн,
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса;
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
В пушкинской поэзии и, может быть, только в ней существует эта завершенная, незримая слаженность породивших ее стихий. Между той областью, где стихи пребывают еще в нераскрытом, расплавленном виде, и той, где они облекаются в речевые потоки, созидаются ремеслом и застывают в культуре, нет не только противостояния, нет и трещины, шва. Мы не отыщем здесь концов, уводящих в неосязаемое или в сочиненное, рукотворное, и, куда бы мы ни пошли, к космосу или логосу, мы встретим то, что называется гармонией, и означает воплощенную человечность. По мысли Блока, гармония соединяет в себе разнородные стихии – слова и звуки – и лишь чудом они могут полностью слиться. Но чудо всегда единственно; чаще всего невидимые звуковые волны не находят верных им слов, словам не хватает звуковой влаги, корни и смыслы их как бы не достают до подземного тока музыки; само словесное их совершенство бывает докучно и немо. У Блока иное: его стихи еще слишком тесно прилегают к «пламенному бреду», они как бы еще не вполне обособились от той музыки, что вынесла их к слову; к ним пристали отголоски невнятной тамошней речи, их населяют те туманно-болотно-предрассветные существа, что странно смотрятся в человеческом мире. «Его стих был не камень, – говорит Корней Чуковский в Книге об Александре Блоке, – но жидкость, текущая гласными звуками». «Они (стихи) – повторяет тот же критик слова Шекспира, – из того вещества, из которого сделаны сны».
Сны застигнуты поэтом в момент их наивысшей ясности и наибольшей власти над душой. Они открыты и облечены в стихи, те пристанища русской речи, кровом которых мы привыкли пользоваться случайно, сентиментально, без мысли о благодарности. Сама жизнь поэта есть одно из таких пристанищ, запросто обживаемых во всяком читательском воображении. Жизнь и поэзия Блока настежь распахнуты – «здесь ресторан, как храмы светел, и храм открыт, как ресторан». Жизнь каждого стихотворения доступна и в глубине недостижима – «как тайна приоткрытой двери в кумирню золотого сна». Попробуем – вслед за гуляками, богомольцами, усердными работниками поэтических музеев – еще раз подойти к этой тайне, отыскать отражения ее в пушкинском слове…
Блок всегда был дорог мне совсем не мистический, не изысканный, не петербургский, не как ресторанный «бог» (Галич), «с каменным лицом красавца и поэта» (Бунин), а уже как бы бывший – «писать стихи забывший Блок» (Блок о себе), все существенное уже написавший, все понявший, обреченный, оглушенный, прикованный к «бессмыслице заседаний», «обтянутый паутиной» (свидетельства очевидцев), тянущийся только к смерти и замедливший перед ней лишь за тем, чтобы напоследок вольно попрощаться с искусством, Россией, Пушкиным, самим собой.
С того знаменитого прощания мы и начнем наш путь к нему.
IIЕго речь О назначении поэта, произнесенная в последний год жизни и посвященная Пушкину, звучит ностальгически. Когда-то Блок предчувствовал гибель отчизны своей вселенной. Предчувствие сбывается: звуковая отчизна умирает в нем самом. Те же бездны и видения вызываются этой речью – хаос, космос, безначальный туман, устроенная гармония – и та же терпкая блоковская прямота в рассказе о них. Но Блока там уже нет. Собственный мир он видит как бы с другого берега, по контрасту с оставленным. И слова его ясны и смелы.
«На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.
Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей…»
Ныне она заслонена и от него.
«Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!» (Пушкин) – она ведет свое происхождение от тех же волн, что объемлют вселенную, воздвигают горы, управляют мировой жизнью, «состоящей в непрестанном созидании новых видов, новых пород…».
«Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать форму; в-третьих, – внести эту гармонию во внешний мир».
В первом деле своем поэт – медиум, духовидец;
во втором – он – мастер, мастеровой своего таланта;
в третьем – литератор, окруженный чернью.
Ибо чернь господствует в том внешнем мире, куда вносится гармония. Она, как водится, озабочена лишь пользой. Разговор о поэзии редко обходится без поношения того или иного образа черни. Она попирается в духе классицизма: поэт рассеянно бряцает на лире, а чернь по тупости своей требует от него пользы и поучений. Она презирается романтически: душа, завороженная звездами, не желает слышать того, что кругом «о злате иль о хлебе народы шумные кричат». Она обличается социологически и нравственно, и для Блока, следующего теперь хорошо протоптанной и неподкупно-демократической традиции, всякая чернь непременно «светская» – скажем, остряки в котелках, жеребцы-кавалергарды, чиновники из жандармско-цензурного ведомства. Но какой бы ни видел поэт свою чернь и куда бы ни помещал ее, он воспринимает ее как некую противоположность поэзии. Чернь для того и существует, чтобы оттенять собой то, что не-чернь. Тот мир, где поэт по заданиям черни должен «просвещать сердца собратьев» или «сметать сор с улиц», бесконечно далек от безначального «родимого хаоса», откуда посылаются ему звуковые волны…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Священное ремесло. Философские портреты"
Книги похожие на "Священное ремесло. Философские портреты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты"
Отзывы читателей о книге "Священное ремесло. Философские портреты", комментарии и мнения людей о произведении.