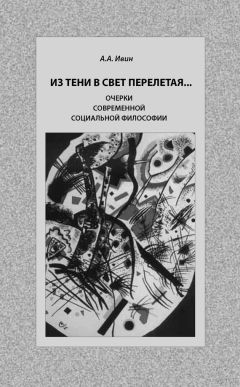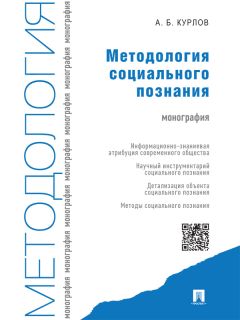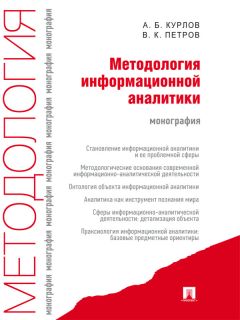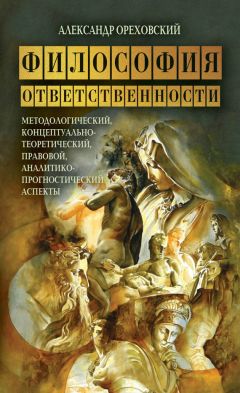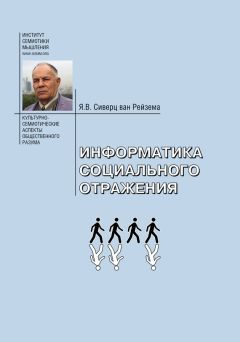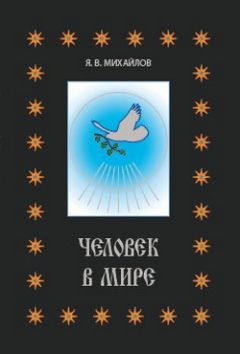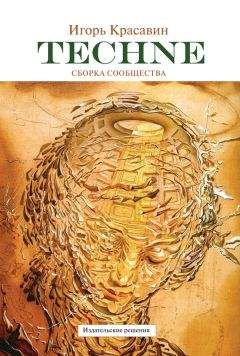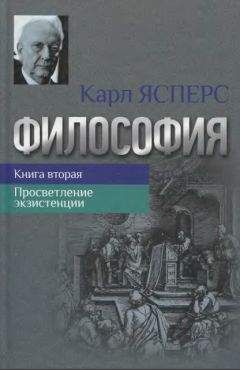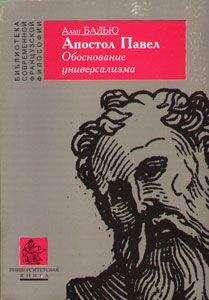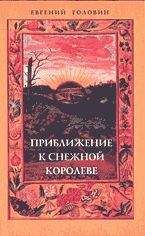Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия
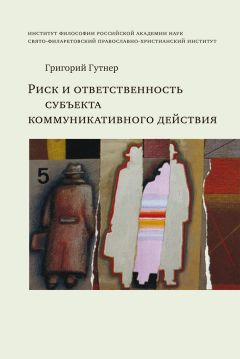
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия"
Описание и краткое содержание "Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена разработке концепции социального субъекта. Рассмотрены два способа описания социума: как бессубъектной среды, рождающей коммуникативные события, и как сообщества субъектов, способных к совершению коммуникативного действия. Это противопоставление связано с двумя стратегиями следования правилу. Одна из них строго связана с системой институтов и техник коммуникации, распространенных в социальной среде. Другая стратегия основана на рефлексии, подразумевает альтернативные правила коммуникации и ответственный выбор со стороны субъекта. Существенным аспектом деятельности такого субъекта является рациональность, поскольку включает обоснование выбора. В качестве принципа обоснования в работе рассмотрено требование универсальности правила. Это требование представляет собой коммуникативный аналог категорического императива.
Книга предназначена для всех интересующихся социальной философией, социологией, этикой, философией науки.
Второй вывод, который нам необходимо сделать, состоит в принадлежности всех мыслящих существ к единому сообществу. Здесь уместно вспомнить развитую Апелем концепцию трансцендентального коммуникативного сообщества [2]. Возможность понимания означает возможность коммуникации. Презумпция потенциальной понятности любого высказывания связана с распространяемым на все языки единством априорных конститутивных правил. Необходимое принятие этих правил всеми существами, пользующимися какими-либо языками (т. е. всеми членами трансцендентального коммуникативного сообщества), и означает априорное единство интерпретации, о котором писал Пирс.
Таким образом, мы приходим к версии априоризма, весьма отличной от кантовской, хотя и сохраняющей с ней существенную связь. Близость с Кантом состоит, во-первых, в принятии того, что он сам назвал «коперниканским переворотом» в теории познания. Смысл этого переворота (состоящий в том, что реальность должна согласовываться с мышлением) мы только что описали, отметив его релевантность позднейшим теориям языка. Во-вторых, мы должны принять кантовский тезис о существовании границы мышления (и, соответственно, мыслимой реальности) и необходимости допущения трансцендентной реальности в себе.
2.3 Вопрос об источнике коммуникативного действия
Однако в результате наших рассуждений о языке оказывается совершенно несостоятельным кантовский методологический солипсизм.
Коль скоро язык оказывается источником правила мышления и структуры реальности, становится невозможным признать автономное сознание субъекта в качестве законодателя. Здесь необходимо вспомнить тезис Витгенштейна о невозможности личного языка. Язык – со всеми своими правилами – существует только в сообществе. В силу этого тезиса мышление следует признать публичной деятельностью, возможной лишь в рамках вербальной коммуникации.
Соответственно и всякая мыслимая реальность с необходимостью интерсубъективна. Правила, конституирующие эту реальность, суть правила коммуникации. Понятно, что если мы пытаемся определить априорные правила, то мы должны (вслед за Апелем) говорить о трансцендентальном сообществе, объединяющем всех возможных участников любой возможной коммуникации.
Сделав вывод о публичном и коммуникативном характере мышления, мы могли бы пытаться развивать некую версию кантианства, приписав трансцендентальному сообществу функции трансцендентального сознания. Похоже, что многие философы, выделяющие при анализе языка его прагматический аспект, поступают именно так. Мы уже упоминали о трансцендентальном единстве интерпретации, которое Пирс противопоставил трансцендентальному единству апперцепции. Однако простая замена одного единства на другое едва ли возможна. Субъект, обладающий сознанием, не просто предписывает реальности правила. Он осуществляет синтезирующее действие. Такого рода активность не может быть атрибутирована сообществу. Значение трансцендентального единства апперцепции в том, что оно свидетельствует о тождестве действующего сознания. Без такого тождества невозможен никакой мыслительный акт. Единство сообщества (трансцендентальное единство интерпретации) означает лишь консенсус относительно правил. Никакого действия оно не предполагает. Поэтому простой заменой одного источника правил на другой обойтись не получится. Необходимо либо указать источник действия (в данном случае действия коммуникативного), либо описать способ представить мышление не как деятельность, а как нечто иное.
Можно указать на две попытки решения указанной проблемы. Первая связана с развитой в XIX столетии идеей духа.
Наиболее известная ее экспликация представлена у Гегеля, который, вполне ясно осознав общественный, исторический и надперсональный характер мышления, должен был указать на некое активное начало, действующее в рамках сообщества как целого. В результате такого представления сообщество приобретает черты субъекта. Оно как бы мыслит и созидает новые формы, хотя делает это, конечно, не оно, а действующий в нем дух. Подобный ход мысли весьма типичен для XIX века, который оказался весьма щедр на измышление различных квазисубъектов. Наиболее популярны были, по-видимому, народ или нация. Но выделялись иные социальные группы или институты, такие, например, как класс, государство или культура. Подобный подход обладает определенной эвристической ценностью. Он, в частности, позволяет довольно эффективно исследовать историческую динамику форм мышления (что впервые продемонстрировал Гегель) или отношения социальных или этнических групп. Однако описание сообщества как субъекта может быть только метафорическим. Если не видеть границ подобной исследовательской методологии, легко перейти от рационального анализа к мифотворчеству, начав олицетворять социальные группы и институты, наподобие того, как в архаических мифах олицетворены стихии.
Маркс был, по-видимому, первым, кто сумел уйти от подобного олицетворения сообществ (что, в принципе, можно было заподозрить, когда он говорит о классовом сознании или классовых интересах) и обнаружил другую возможность представления публичного характера мышления. Его главное отличие от Гегеля состоит в том, что историческую динамику форм мышления он представляет не как результат деятельности духа (т. е. некоего сверхсубъекта), а как стихийно складывающееся положение дел. Человеческое общество живет сообразно правилам, возникающим в силу естественной необходимости. Все происходящее в нем не имеет в конечном счете автора. Использование Марксом терминов «сознание» или «интересы» применительно к социальной группе следует поэтому понимать лишь в переносном смысле. Мышление у Маркса начисто теряет как личный, так и субъектный характер. Этот аспект его философии был весьма активно воспринят и развит в XX веке. Многие философы, в том числе и отнюдь не близкие к марксизму, представляли сообщество не как субъекта, а как среду.
Всякое проявление мысли следует в таком случае рассматривать не как действие, а как событие, происходящее в этой среде. Обращение к языку в рамках такого подхода весьма уместно, поскольку язык предстает как существующая помимо какого-либо субъекта структура, сообразно которой организованы все процессы, происходящие в сообществе. Подобные взгляды явно доминировали в XX веке, разворачиваясь в разнообразные концепции, подчас серьезно конкурирующие между собой. Среди наиболее заметных направлений в философии, придерживающихся взгляда о бессубъектном характере мышления, следует, помимо марксизма, назвать структурализм. В том же ключе построены различные постмодернистские конструкции, создающие картину спонтанного порождения культурных феноменов. Одним из самых интересных и плодотворных проявлений данного подхода следует, на мой взгляд, считать витгенштейновскую концепцию языковых игр.
Неизбежной сложностью подобного подхода является неясность позиции автора концепции. Казалось бы, он должен позиционировать себя как объективный наблюдатель, изучающий свойства коммуникативной среды как внешнего объекта. Но в таком случае правила деятельности исследователя должны быть принципиально отличны от законов функционирования среды. Автор концепции все же оказывается субъектом мыслительного акта и, следовательно, неизбежно рассматривает себя как исключение из правила, объявленного ранее универсальным. Тем самым восстанавливается позиция методологического солипсизма. Язык, на котором создается описание коммуникативной среды, должен быть тогда метаязыком, отличным от языка-объекта (т. е. подлежащего исследованию языка сообщества). Существенно, что этот метаязык оказывается личным языком исследователя.
С другой стороны, едва ли возможно не обособлять позицию автора концепции. Ведь в этом случае всякое исследование такого рода будет одним из событий в той самой среде, которая подлежит исследованию. Само это исследование должно быть тогда порождено теми самыми механизмами, действие которых пытается объяснить. В таком случае, едва ли можно всерьез говорить об истинности объяснения. Невозможно говорить об адекватности научного описания, если все мыслительные ходы исследователя полностью детерминированы исследуемым объектом. Кроме того, если исследование есть некое событие внутри исследуемой среды, оно постоянно вызывает подозрение в циркулярности, поскольку использует в качестве исходных посылок те формы (правила, структуры), которые призвано объяснить и, так или иначе, обосновать.
Последний из возможных подходов к описанию мышления как публичного феномена заключается в принятии идеи интерсубъективности в собственном смысле слова. Этот подход требует признания того (на первый взгляд очевидного) факта, что сообщество состоит из индивидов, каждый из которых является субъектом мышления. Исходный смысл понятия коммуникации включает именно эту предпосылку. Однако столь популярная в последние десятилетия идея смерти субъекта (связанная с доминированием второго из описанных здесь подходов) требует, по-видимому, дополнительных аргументов для ее принятия. Оставшаяся часть этой главы и будет посвящена таким аргументам, однако прежде нам нужно прояснить некоторые детали предложенного здесь понимания сообщества.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия"
Книги похожие на "Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Гутнер - Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия"
Отзывы читателей о книге "Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия", комментарии и мнения людей о произведении.