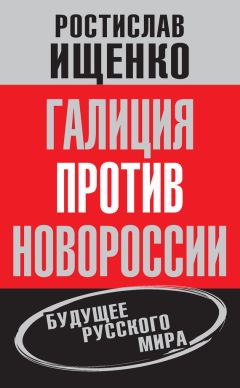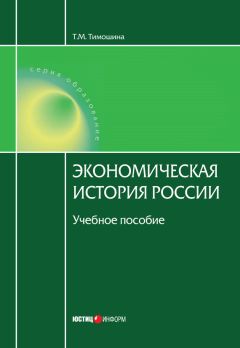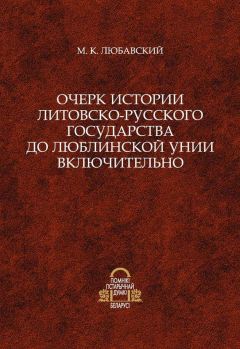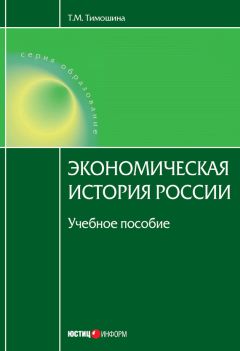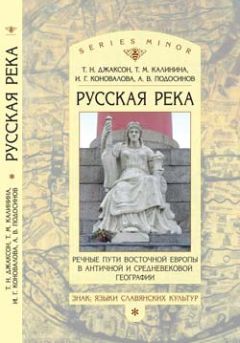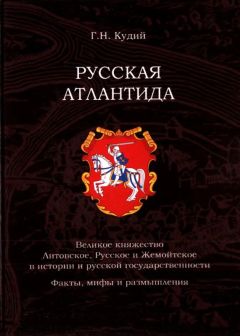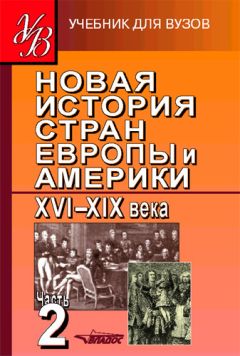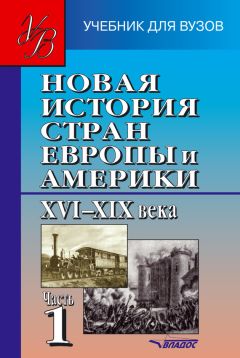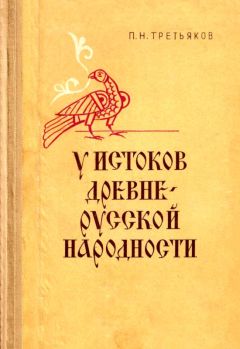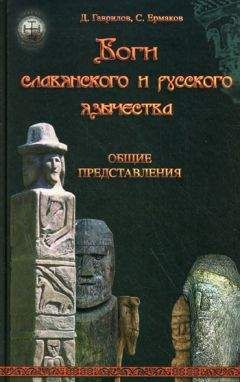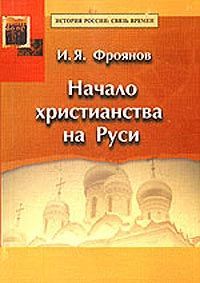Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
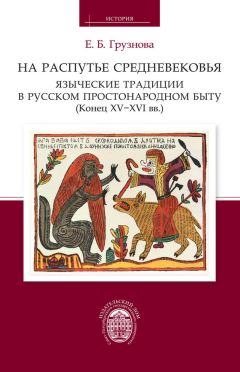
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Описание и краткое содержание "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)." читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена малоизученному периоду в истории язычества на территории Восточной Европы. Рассматривается место языческих традиций в жизни низших слоев русского общества в конце XV–XVI вв., тенденции их развития в условиях становления идеологии православной монархии и роль в дальнейшем формировании народного мировоззрения и быта.
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
Арсенал колдовских средств для нанесения вреда людям, вплоть до смерти, был достаточно велик, о чем свидетельствует использование в одних и тех же вопросах сразу нескольких глаголов, передающих понятие порчи, – отравил, потворил, ускупил, угрызнул, переел, испортил. Весьма показательным является и вынимание следа, рассматривавшегося как нечто связанное с оставившим его человеком, а потому пригодным для наведения злых чар на его носителя.
Для опустошения нивы и сбора спорыньи из чужого хлеба в свой, согласно этнографическим данным, часто использовали залом и пережин. Обе процедуры осуществлялись ночью, обычно женщиной, которая раздевалась донага и распускала волосы, а затем пережинала чужое поле полосами крест накрест по диагонали или завязывала узлом пучок колосьев – «заламывала» его.[171] По новгородским преданиям, заломы во ржи считались очень опасными, их следовало сжигать, но ни в коем случае не срывать, чтобы не «перекорежило» самого жнеца, которому, в этом случае, пришлось бы обращаться за помощью к бабке.[172] В Тульской губернии узел-залом, являвшийся персонификацией колдовской силы, когда-то называли «куклой/ куколкой», что, по мнению Н. А. Криничной, может указывать на его прежнюю антропоморфность.[173] Возможно, разрывание кукол на полях в весенне-летних обрядах выражало идею разрывания таких заломов.
Что касается порчи скота, то здесь, видимо, речь идет прежде всего о магическом отбирании молока у коров, в котором нередко обвиняли ведьм и которое просматривается в вопросе требника начала XVII в.: «В чюжеи коровы молоко портила ли?».[174]
Не такой злокозненной, но столь же осуждаемой церковью формой взаимодействия с природой являлись разворачивавшиеся на ее лоне игрища, речь о которых пойдет в отдельной главе, а также ритуальные пиршества, «егда на молбищах еже чюдь творят неразумия человецы, в лесех, и на нивах, брашно или питие, или удавленину ядяше…».[175] Суть подобных пиров состояла в провокации плодородия, так как по представлениям, характерным для языческой культуры, пища способна не только насыщать, но и воскрешать то, что поедают – зерно или зверя, а также наделять жизненной силой каждого участника распределения кулинарного символа.[176] Цель обряда определяла и особенности приготовления пищи, когда назначенного для поедания зверя не резали, а удушали, чтобы воспользоваться в ритуальных целях его кровью – носительницей жизни. Потребление изготовленных из крови колбас означало приобщение к жизненной силе животного, поэтому православные и принимали участие в языческих пирах на мольбищах.
Не исключено, что языческий смысл изготовления и поедания колбас к середине XVI в. осознавался уже не всеми слоями русского общества, как в XI в. не осознавали его греки.[177] Но сохранение этой кулинарной традиции «по всем городом и по всем землям» Руси[178]противоречило христианским заповедям, восходившим к Ветхому Завету и требовавшим выпускать в землю кровь, отождествлявшуюся с душой. Поэтому Стоглав учинил заповедь, вошедшую во все наказные списки, «чтобы удавленых тетеревей, и утиц, и заецов удавленых в торг не возили, и православныя бы христиане удавленины… не покупали, и удавленины бы, и всякого животнаго крови не ели», ибо еще на Трулльском соборе было решено отлучать мирян, которые «кровь коего убо животнаго хитростию некакою сътворяют снедно, еже глаголють колбасы и тако кровь ядят».[179]
Еще более явно проступают языческие черты в традициях изготовления хмельных напитков, использовавшихся как в ритуальной практике, так и в повседневном быту. Худой номоканунец конца XVI в. предупреждал: «Несть достойно висикосного лета блюсти на сажение вина…».[180] Но в традиционных обществах создание рукотворных изделий входило в сферу сакрального знания,[181] а потому люди не только учитывали особенности календаря, но и обставляли процесс виноделия целым рядом обрядов, схожих с греческими вакханалиями, на что обратили внимание участники Стоглавого собора. «…Егдаж вино точит, или егда вино в сосуды преливают, или иное кое питие сливают, гласование и вопль велий творят, неразумнии по древнему обычаю, эллиньская прелести, эллинскаго бога деониса, пьанству учителя призывают, и гласящим великим гласом квас призывают, и вкус услажают, и пьаньство величают».[182] Все названные действия призваны были, как гласит текст, обеспечить заквашивание напитка, имевшего продуцирующее значение – ведь брожение означает создание нового. Церковь же видела в соблюдении данных обычаев дьявольское прельщение, а потому стремилась их прекратить.
О. А. Черепанова полагает, что обряд призывания кваса не был свойствен Руси, не знавшей виноградарства, и попал в постановления церкви из зарубежных источников южного происхождения.[183]На наш взгляд, законодательный памятник, посвященный проблемам русской религиозной жизни, не мог включать абстрактные рассуждения о неизвестных обществу обычаях. А. А. Турилов и А. В. Чернецов пришли к выводу, что ссылку Стоглава на культ Диониса нельзя считать лишь литературной ассоциацией, не связанной с реальностью русской жизни того времени. Согласно Новгородской IV летописи, в 1358 г. новгородцы «целоваша бочек не бити». А это означает, что до середины XIV в. такой обряд в Новгороде действительно существовал.[184] Стоглав показывает, что призывание кваса существовало и позже, хотя и без битья, которое хорошо известно в качестве акта провокации плодородия по обрядам вызывания дождя (бьют воду в колодце), свадебным (бьют молодых) и купальским (бьют землю).[185]
Наравне с «великим гласом», возносившимся при приготовлении кваса, сохранялись и другие ритуальные действия, направленные на обеспечение высокого качества хмельных напитков и их достаток. Об этом свидетельствует автор Чудовского списка Слова св. Григория, осудивший современников, которые «пиво варяще соль сыплють в кадь, и уголь мечють… смокочють к пиву, или к меду, и се поганьская жертва, оже что прокынется, или прольеться, то они припадшее на коленех, аки пси, пиють или воду, а се поганьскы творять».[186] Соль и уголь часто использовались в качестве оберегающего средства, как будет показано ниже. Известное из вологодских говоров слово «смокотать» означает сосущие, хлюпающие движения [187] и в данном контексте явно отражает призывы к пиву и меду. Последняя же фраза акцентирует внимание на почтительном отношении к пролитой жидкости, причем не только хмельной.
Совмещение религиозных практик
Действия, подобные вышеописанным, легко могли совмещаться с элементами, заимствованными из христианского культа, что считалось очень серьезным нарушением. Составитель все того же Чудовского списка с горечью писал: «а се иная злоба в крестьянех ножем крестять хлеб, а пиво крестять чашею».[188]
Защитники православия старались не только бороться с самовольным использованием христианской символики, но и в принципе изменить отношение народа к ритуальному питию горячительных напитков, обилию и свободе пиршеств, особенно приуроченных к дням почитания святых из-за совпадения церковного и земледельческого календарей. 20-й вопрос 41-й главы Стоглава призывал царя запретить пьянство и азартные игры детям и людям боярским «и всем бражникам», а 52-я глава памятника, предназначенная монахам, объявляла: «…празники не Божии чтите но диавола, егда ся обьядаете и упиваете и блюдите».[189]
Но почитание установленных церковью праздников не только сопровождалось обильным столом, более пригодным для языческих оргий, но и получало весьма специфическую форму, не имевшую ничего общего с христианством. Так, например, образы христианских святых Анастасии и Параскевы оказались совмещены непоследовательными прихожанами с языческой верой в предупредительное значение снов и видений. И участники собора 1551 г. вынуждены были разъяснять, что не Божии угодницы, а бесы являются нашим предкам, подучивая их не работать по средам и пятницам.
Подобные накладки происходили из-за того, что из христианского вероучения «в народе использовали… главным образом его магическую сторону, надеясь на помощь христианских “святых“ и “заступников“ при решении чисто практических задач повседневного быта».[190] Но, по наблюдению А. Я. Гуревича, «смешение религии и магии вызывалось не только неодолимой потребностью верующих видеть и испытывать чудеса и добиваться нужного им результата при посредстве колдовских действий, но и неясностью в понимании самими духовными лицами различия между христианством и языческой практикой».[191]
Это со всей очевидностью показывает и Стоглав, зафиксировавший освящение приходскими батюшками предметов, мало связанных с православным культом, но игравших важную роль в языческих представлениях. Второй из дополнительных вопросов сообщает: «Иная убо творится в простой чади, в миру дети родятся в сорочках, и ти сорочки приносят к попом, и велят их класти на престоле до шести недель. И о том ответ. Вперед таковыя нечистоты и мерзости во святая церкви не приносити, и на престоле до шести недель не класти, понеж и родившая жена до четыредесят дней дондеже оцыститца в святую церковь не входит».[192] (В Нидерландах считали, что на время от родов до очищения женщина как бы вновь превращается в язычницу[193].)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Книги похожие на "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Отзывы читателей о книге "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).", комментарии и мнения людей о произведении.