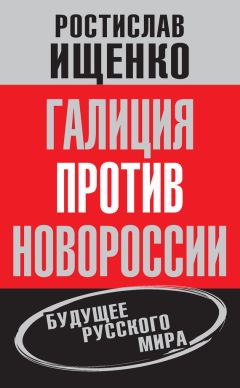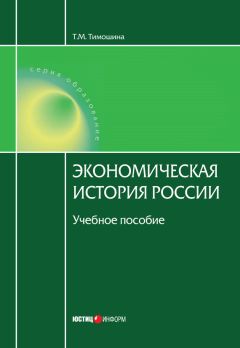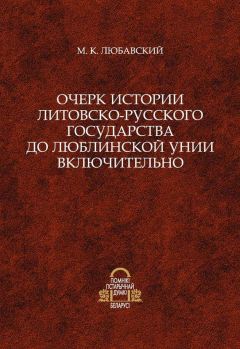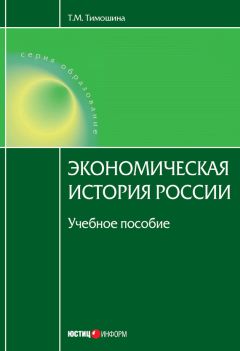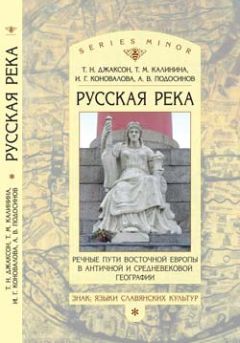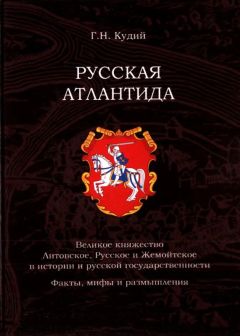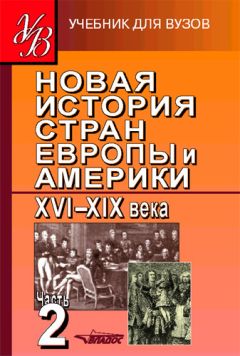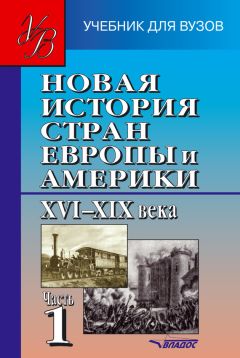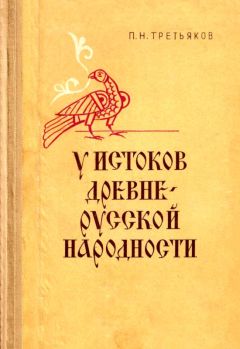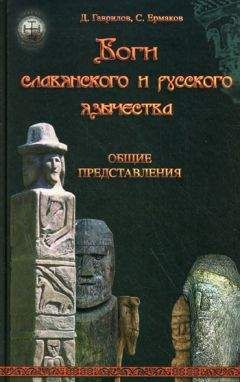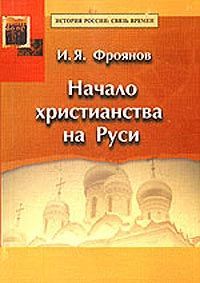Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
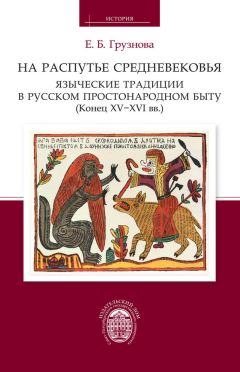
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Описание и краткое содержание "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)." читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена малоизученному периоду в истории язычества на территории Восточной Европы. Рассматривается место языческих традиций в жизни низших слоев русского общества в конце XV–XVI вв., тенденции их развития в условиях становления идеологии православной монархии и роль в дальнейшем формировании народного мировоззрения и быта.
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
Даже в тех случаях, когда производилось венчание, оно не исключало внецерковной части свадебного обряда, практически без изменений дожившей до XX в. и достаточно хорошо изученной этнографами. Так, неизвестный англичанин, наблюдавший русские свадебные обычаи зимой 1557–1558 гг., рассказывает, что в церковь невеста идет с закрытым лицом и плачем, а обратно – открывшись. «При этом уличные мальчишки кричат и шумят бранными словами. По приходе домой, жена садится за самый высокий конец стола, муж около нее; тогда начинается попойка, иногда при этом бывает певец или два, а двое, приведшие новобрачную из церкви, голые танцуют довольно долго пред компанией».[282]
Нарисованная картина находит подтверждение и объяснение в народном быте последующих столетий. Даже и в XX в. в ряде мест существовал обычай открывать лицо невесты, закрытое прежде платком, сразу после венчания[283] (правда, не в церкви, а дома, что зафиксировал в 1576–1578 гг. и австрийский посол Даниил Принтц[284]). Этот ритуал знаменовал собой переход молодой в новое социальное пространство, переход, сравнимый со смертью и последующим воскресением.[285]Именно поэтому невеста плакала только на начальном отрезке своего пути в семью мужа, пока расставалась с родом-племенем.
По той же причине (а вовсе не из-за боязни порчи, как полагает А. К. Байбурин[286]) она во время обряда передвигалась не самостоятельно, но при помощи посредников – старушек, которые, согласно Принтцу, после венчания «одне только бывают и снаряжают молодую, отводят ее домой, ставят у постели и, снявши покрывало, наконец-то показывают ее жениху…».[287] Пассивное поведение невесты отмечал в начале XVII в. и Маржерет, сообщавший также, что она остается закрытой до завершения свадьбы.[288] Весьма примечательна здесь ведущая роль старух, более всего близких миру смерти, и отсутствие на бракосочетании девушек, которым, по этнографическим сведениям, запрещалось и участие в поминках вследствие их принадлежности к наиболее жизнеспособной части общества.[289]
После венчания новобрачная вступала во владения другой родственной группы, и для активизации ее жизненных сил требовалось предпринять особые действия, среди которых простейшим являлось ритуальное сквернословие. Мы обнаруживаем его во всех обрядах, связанных с идеями смерти и возрождения. На свадьбе же брань являлась прерогативой мальчишек или парней, как это видно и из этнографических материалов,[290] видимо, потому, что они представляли собой носителей неизрасходованной сексуальной силы, способной превратить девушку в женщину.
Обнаженными танцорами, также как и певцами, из описания англичанина, судя по всему, были приглашавшиеся на свадьбы скоморохи, в практику которых входили песни, музыка и эротические мотивы, призванные в данном случае спровоцировать чадородие молодой четы. В XIX – начале XX в. элемент ритуального оголения реально или только в словесной форме входил в схему поведения дружки или нескольких дружек, руководивших мирской свадьбой – не даром одетый петухом дружка вместе с другими ряжеными мог исполнять песни эротического содержания.[291] Возможно, именно такого рода «видения» в первой половине XVI в. московский митрополит Даниил запрещал священникам и клирикам «позоровати на брацех и на вечерях, но преже входа игрецов въстати им и отходити».[292]
Актуальность данного запрета подтверждается статьей рязанского владыки Кассиана о церковных нестроениях из сборника Волоколамского монастыря первой половины XVI в., 15-й вопрос которой обвиняет мирян в том, что они «свадбы творят и на бракы призывают ереев со кресты, а скоморохов з доудами и хъмелев в бесов образ преобразившихся»,[293] т. е. ряженых. О справление браков на Руси XV–XVI вв. «с бубны и с сопельми и многыми чюдесы бесовьскыми»[294] сообщает и дополнительный 16-й вопрос Стоглава, гласящий: «В мирских свадбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы и гусельники, и бесовския песни поют».[295]
То же продуцирующее значение, что пляски и песни глумотворцев, имело и пьянство («в нем же ес блуд»[296]), и водившиеся на крестьянских свадьбах хороводы в высшей степени со сладострастными телодвижениями.[297] Правда, о последних сообщает гораздо более поздний источник – второй половины XVII в. Но ведь не случайно и в XVI столетии митрополит Даниил считал нужным напоминать в проповедях правила 53 и 54 Лаодикийского собора, запрещавшие позванным на брачный пир христианам «плескати или плясати».[298]
Справедливость предложенного нами понимания свадебных танцев подтверждается наблюдавшимся этнографами обычаем изображать свадьбу на ноябрьских кузьминских вечеринках. В рамках разыгрывавшегося обряда иногда устраивались пляски, кульминационным моментом которых являлись символические роды куклы одной из участниц. Любопытно отметить, что при инсценировках свадьбы парни и девушки взаимно менялись ролями, переодеваясь в одежду, принадлежавшую лицам противоположного пола.[299] Аналогичное преображение происходило и с участниками реальной свадьбы на второй день церемонии.[300] Относительно таких переодеваний недвусмысленно высказался Стоглавый собор, осудивший «неподобные» одеяния обменивавшихся платьем мужчин и женщин как эллинство и еретичество, приемлемое разве что для поганых нехристей.[301]
Если языческие традиции находили себе место при заключении брака, то не менее значимой была их роль при его расторжении.
Как отметил А. Д. Способин, еще при Владимире Святом дела о «роспусте» были переданы в ведение церкви,[302] которая, как известно, отнюдь не приветствовала разводы, ибо Священное писание гласило: «Жена да прилепится к мужу своему». Но жизнь нередко предъявляла свои требования, и на этот случай существовали жесткие предписания – в каких случаях и на каких условиях допускается прекращение брачных отношений. Интересно, что, согласно Кормчим книгам, муж имел право инициировать развод, если жена «выдет на игрища» без согласия супруга, либо «зелием или инем чем на живот мужа своего злое совещевает или ведяще не повесть ему» о такой угрозе.[303] То есть обвинение в приверженности «поганским» обычаям считались достаточным основанием для развода. В любом случае правомерность требования о расторжении брака должна была подтвердить церковь, чтобы не получилась ситуация, знакомая составителям «Поучения священникам» (около 1499 г.) – когда «муж жену пустит или жена мужа без вины».[304]
Тем не менее случалось, что супруги расставались, даже если этому противились служители Христа. И хотя в данном случае мы имеем лишь свидетельства иностранных мемуаристов, но их истинность отчасти подтверждается окружной грамотой короля Сигизмунда 1509 г., в которой он ссылается на киевского митрополита Иосифа, жаловавшегося, что гражданские брак и развод процветают именно в русских землях Литовско-Русского государства.[305]
Расторжение брака в Московии в XVI в. описано Александром Гваньини, по данным которого некоторые из сельских жителей, не имеющие возможности добраться до епископа для получения разводной грамоты, разводятся древним местным способом – рвут полотенце на перекрестке. «Но этот нелепый способ развода теперь совершенно отменен».[306] Г. Г. Козлова посчитала данное сообщение итальянца курьезным и попыталась объяснить его заимствованием из записок другого путешественника – Рафаэля Барберини, приезжавшего в Россию по торговым делам в 1565 г.[307] Но последний дает несколько иную интерпретацию обычая: «…Когда случится, что муж и жена оба согласны развестись и покинуть друг друга, в таком случае соблюдается у них следующий обычай: оба идут к текучей воде, муж становится по одну сторону, жена по другую, и взяв с собою кусок тонкого холста, тут тащат его к себе, каждый за свой конец, и раздирают пополам, так что у каждого в руках остается по куску; после чего расходятся оба в разные стороны, куда кому вздумается, и остаются свободными».[308]
Способ развода путем разрывания символа совместной жизни не является чем-то из ряда вон выходящим. Схожие обычаи известны и у других народов. В частности, у чувашей, черемисов, мордвы, вотяков и манси муж, не довольный женой и желающий с ней расстаться, завладевал ее покрывалом и рвал его. В африканском Уньоро муж разрезал пополам кусок шкуры, часть которой оставлял себе, а другую отсылал отцу жены. На Яве же священник с той же целью разрывал «свадебную нить».[309]
В нашем случае оба информатора говорят о разрывании холстины. А ведь тканые изделия, согласно материалам этнографии, играли весьма существенную роль в русской брачной обрядности (не случайно Н. Маторин обнаружил общее происхождение слов «пряжа» и «супруги»[310]). Во время свадебных ритуалов молодая одаривала членов новой семьи полотенцами собственноручного изготовления, тем самым связывая свою судьбу с мужниным родом. Кроме того, в Сольвычегодском уезде Архангельской губернии зафиксирован свадебный обычай, который представлял собой прямую противоположность разводному разрыванию ткани. Утром после первой брачной ночи дружка связывал молодых полотенцем с приговором любить друг друга всю жизнь, а затем отдавал это полотенце жениху.[311] Не такое ли полотенце использовали в древности для проведения разводных обрядов? Как бы там ни было, но при расставании соединенные в единое целое нити разрывались, прекращая магическую связь между супругами и их семьями.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Книги похожие на "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)."
Отзывы читателей о книге "На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).", комментарии и мнения людей о произведении.