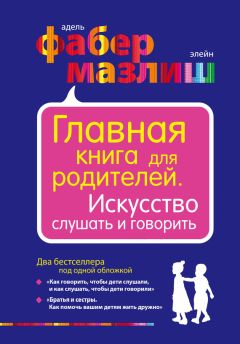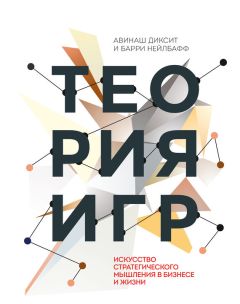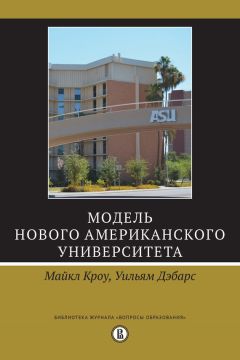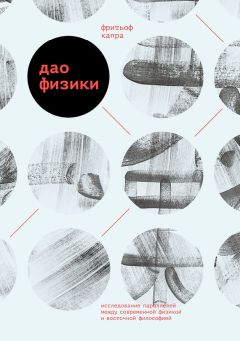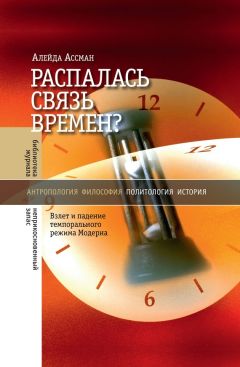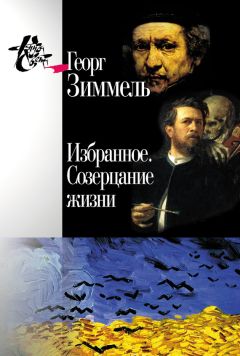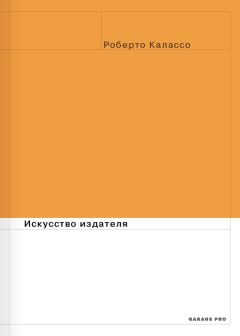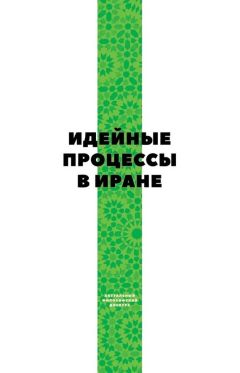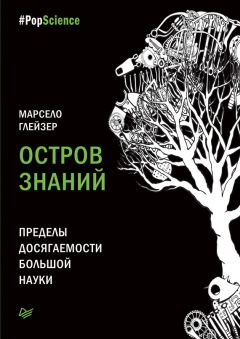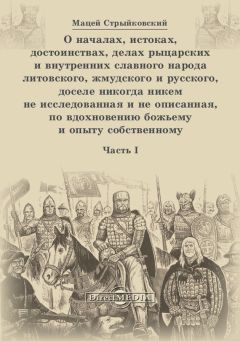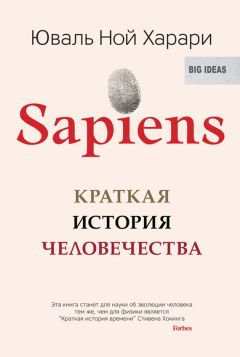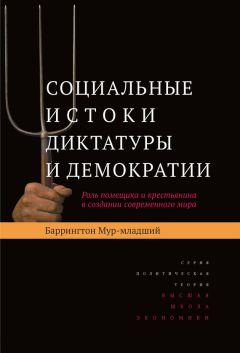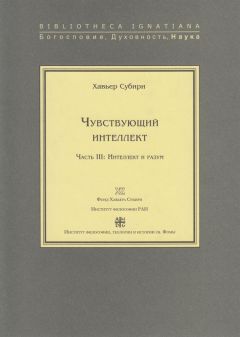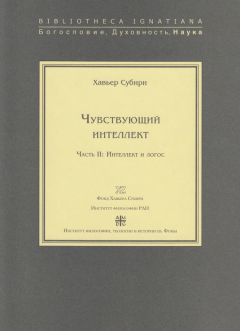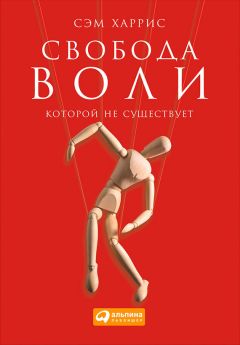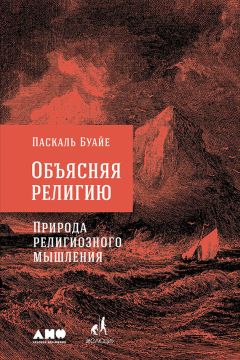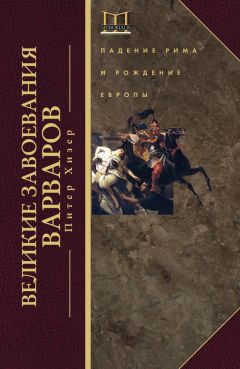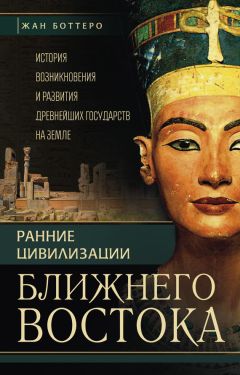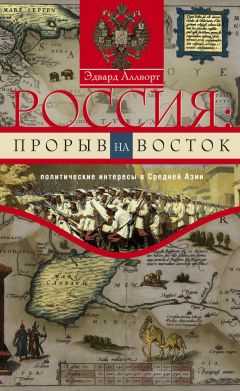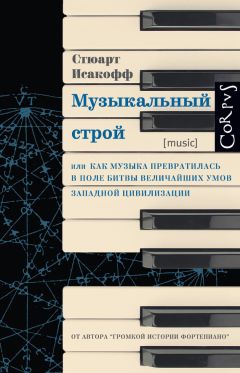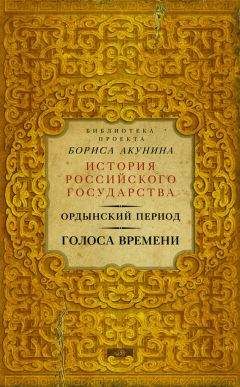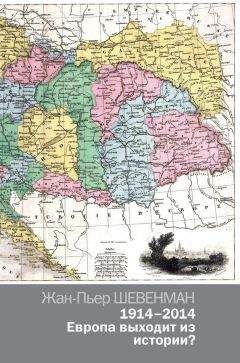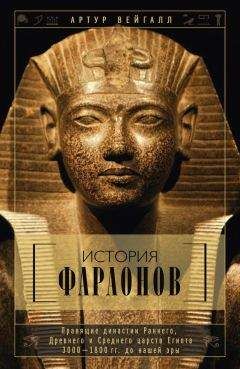Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии
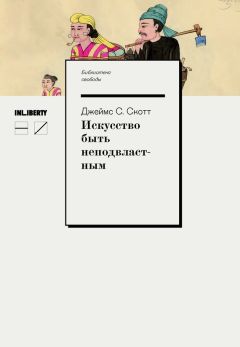
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии"
Описание и краткое содержание "Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии" читать бесплатно онлайн.
Так называемая Зомия, гористая часть Юго-Восточной Азии с на селением более 100 миллионов человек, объединена не толь ко географией, но и совершенно особыми формами социальной структуры, сельского хозяйства, мобильности и культуры. На протяжении веков жители Зомии успешно сопротивлялись государственному строительству и фактически существовали без государства, избегая статистических обследований, воинской повинности и налогообложения. Детальный очерк устройства этой уникальной цивилизации свободы – в новой книге выдающегося американского антрополога Джеймса Скотта.
Подобное обратное соотношение высотности проживания над уровнем моря и цивилизационного статуса срабатывает и в Таиланде. На протяжении всей своей жизни изучавший народ акха (лингвистически относящийся к хани), уже пожилой Лео Альтинг фон Гойзау отмечал, что акха, как проживающие на «средних высотах», стигматизируются как нецивилизованные, хотя в меньшей степени, чем группы, чьи селения расположены на самых больших высотах: «Эта ситуация структурируется… противоположным иерархии сакдины (sakdina) [системы ранжирования у живущих на равнинах тайцев] способом, поскольку здесь низшие классы проживают выше всех [народы из группы монов-кхеров, например ва, буланги, кхму, хтины и дулонги], а самые высокие социальные позиции географически размещены ниже всех остальных – на равнинах и в долинах»[245].
Лингвистические конструкции в бирманском и китайском языках отражают эту символическую «высотность» равнинных центров цивилизации. Так, чтобы сказать, что человек идет в столичный город или в школу, обычно используют глаголы, дословно обозначающие «подниматься», «взбираться на высоту» или «восходить» (teq). Даже если человек жил на вершине горы, то он все равно «поднимался» в Мандалай. Точно так же тот, кто направлялся в сельские поселения или в горы, «шел вниз» или «спускался» (s'in), даже если речь шла о месте, расположенном на тысячу футов выше столицы. Иными словами, как и в западных контекстах, здесь подъем и спуск никак не коррелировали с высотностью, а определялись исключительно культурными статусными «перепадами»[246].
Не только проживание на больших высотах маркировалось рисовыми государствами как «варварство», но также физическая мобильность и рассеяние. Здесь опять прослеживаются явные параллели с историей средиземноморского мира. Христианские и мусульманские империи считали жителей гор и кочевые народы – именно те группы, которым удавалось ускользать из лап государства, – язычниками и варварами. Сам Мохаммед ясно сказал, что кочевники, принимающие ислам, в качестве обязательного условия их признания мусульманами должны перейти к оседлому образу жизни или поклясться сделать это[247]. Ислам был религией оседлой элиты, поэтому считалось, что кочевник не может быть достойным мусульманином. Бедуины провозглашались «дикарями» и противопоставлялись мекканам как идеальным горожанам. В рамках цивилизационного дискурса арабского мира кочевой статус играл ту же социально-дифференцирующую роль, что и высота над уровнем моря в рисовых государствах.
В Юго-Восточной Азии идея цивилизации в значительной степени также была агроэкологически обоснованной системой кодов. Люди без определенного места жительства, которые постоянно и непредсказуемым образом перемещались в пространстве, выпадали за рамки цивилизованного мира. Цивилизованность сводилась к постоянной «учтенности» государством и производству излишков, которые оно легко присваивало. На Западе, как и в Юго-Восточной Азии, субъекты, по этническим и религиозным характеристикам принадлежавшие доминирующему большинству, но не имевшие постоянного места жительства, социально маркировались: существует множество обозначений бродяг, бездомных, бомжей, босяков. Знаменитое высказывание Аристотеля гласит, что человек по природе своей гражданин государства (polls); те же, кто сознательно отказался быть членом данного сообщества (apolis), по определению не обладают человеческим достоинством[248]. Когда целые группы, например скотоводы, цыгане, подсечно-огневые земледельцы, по собственному выбору вели кочевой или полукочевой образ жизни, они рассматривались как коллективная угроза и массово стигматизировались.
Вьетнамцы, несмотря на разнообразие используемых практик поиска работы и организации поселений, убеждены, что их объединяет некая прародина, куда они обязательно или возможно вернутся[249]. Те, кто подобным исконным местом происхождения похвастаться не может, стигматизируются как «люди четырех сторон света»[250]. Горные народы расширительно трактуются как сообщества бродяг – одновременно жалких, опасных и нецивилизованных. Финансируемые государством кампании «по переводу кочевников на оседлый образ жизни» или «за оседлое земледелие и постоянное место жительства», призванные сократить масштабы кочевого земледелия, переселить жителей горных районов подальше от границ и «научить» их поливному рисоводству, нашли широкий отклик среди вьетнамского населения. Большинству вьетнамцев и чиновников казалось, что они осуществляют благородную попытку ввести отсталых и неотесанных людей в лоно цивилизации.
Бирманцы, куда менее вьетнамцев озабоченные родовыми усыпальницами как таковыми, с тем же страхом и презрением относились к бродягам без определенного места жительства. Их называли lu le lu Iwin, что буквально переводится как «человек, гонимый ветрами» и имеет вариативные трактовки бродяги, босяка или странника, которые объединяет коннотация «человек, тратящий свою жизнь впустую»[251]. Многие горные народы в таком контексте считаются отсталыми, неблагонадежными, бескультурными. Бирманцы, как и китайцы, считали ведущие кочевой образ жизни народы подозрительными с цивилизационной точки зрения. Эти стереотипы сохраняются, и сегодня усложняя жизнь горных народов Бирмы. Так, католический студент из семьи падаунгов-каренов (оба его родителя – выходцы из горных народов) сомневался, следует ли ему бежать от военных репрессий демократического движения 1988 года, понимая, насколько стигматизирован статус скрывающегося бегством в лесах:
Я боялся, что просто-напросто буду заклеймен своими земляками как беглец в джунгли. Олово «джунгли» [taw] все еще несет в себе уничижительный подтекст в речи бирманцев-горожан. Тот, кто укрывался у этнических повстанцев, назывался «ребенком джунглей» [flaw Tea le], что обозначало примитивность, анархию, насилие и болезни, а также отталкивающую близость с дикими животными, к которой бирманцы испытывали отвращение. Я всегда был до крайности болезненно чувствителен к возможности восприятия меня как части примитивного племени, и большинство моих желаний и амбиций в Таунгу и Мандалае были связаны со стремлением сбежать в цивилизацию)[252].
Генерал династии Цин Ортай, который считал горные народы провинции Юньнань «варварскими кочевниками, полной противоположностью идеалам цивилизации», не только был категоричен, но и, по сути, сформулировал идею, под которой могли бы подписаться правители всех рисовых государств[253].
Для китайских, бирманских и сиамских государств ряд жизненных практик и необходимых им агроэкологических ниш был безнадежно и неотвратимо варварским. Охота и собирательство, как и подсечно-огневое земледелие, с неизбежностью предполагали жизнь в лесах[254], что само по себе было за гранью морально допустимого поведения. Китайский текст XVII века описывает народ лаху, проживавший в провинции Юньнань, как «людей гор, лесов и водных потоков»[255]. Утверждалось, что они едят только сырую пищу и не хоронят мертвых, а потому приравнивались к обезьянам. Совершенно исключая возможность того, что, как считает Энтони Уолкер, лаху стали горными подсечно-огневыми земледельцами, сбежав из долин, их считали исконными, коренными жителями гор. В качестве доказательства их примитивного, ур-состояния приводился список обычаев и жизненных практик – типы поселений, одежды (или ее отсутствия), обуви (или ее отсутствия), рацион, погребальные ритуалы и манера поведения, – которые противоречили всем идеалам конфуцианской цивилизации.
У читателя ряда отчетов ханьских чиновников о многочисленных и непонятных горных народах на юго-западной границе империи, вероятно, возникнет два впечатления. Первое: перед ним своеобразный этнографический аналог «путеводителя по птицам» (лаху носят такие-то и такие цвета, проживают в таких-то и таких местах, выживают за счет того-то и того-то), позволяющий должностным лицам опознавать, так сказать, пролетающих мимо птиц. Второе впечатление заключается в том, что все горные народы расставлены в той эволюционной и цивилизационной последовательности, мерилом которой выступают идеалы ханьской цивилизации. Горные сообщества проранжированы от самых «незрелых» (примитивных) до самых цивилизованных, и мы видим следующую последовательность: «почти ханьцы», «на-пути-трансформации-в-ханьцев», «могут-со-временем-стать-ханьцами-если-захотят (и если-мы-пожелаем-этого!)» и наконец категория (например, для самых «диких лаху»)
«нецивилизованных», которая, конечно, обозначала эквивалент состояния «по-сути-не-человек».
Редкое название проживавших на периферии государственного контроля групп – подсечно-огневых земледельцев, горных народов, жителей лесных районов и даже крестьян в сельской глубинке – не содержало в себе стигматизирующих коннотаций. В бирманском языке сельские жители отдаленных от культурных центров районов называются taw (ha (eoco осо:), что дословно переводится как «лесной обитатель» и содержит коннотации неотесанного, дикого и грубого человека[256].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии"
Книги похожие на "Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии"
Отзывы читателей о книге "Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии", комментарии и мнения людей о произведении.