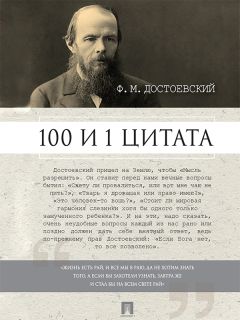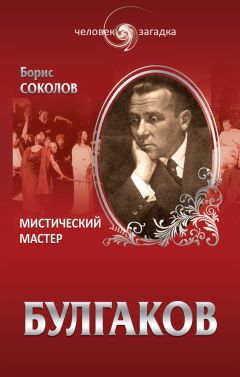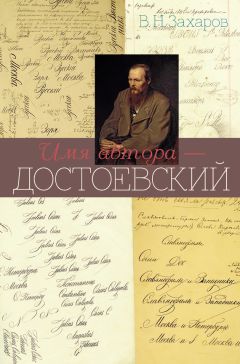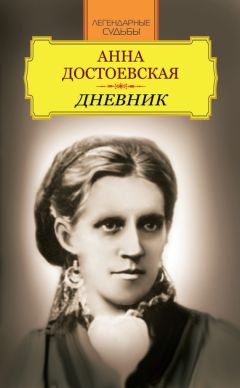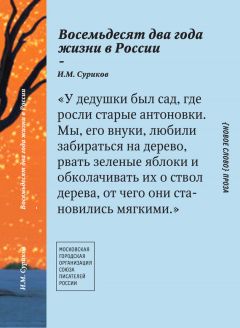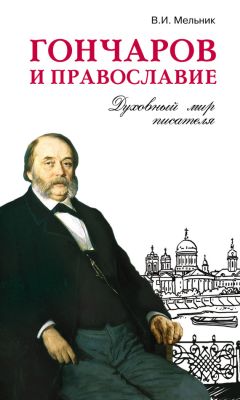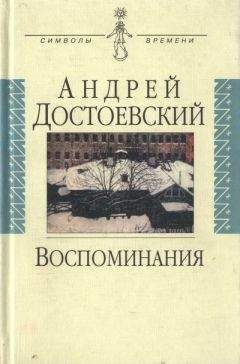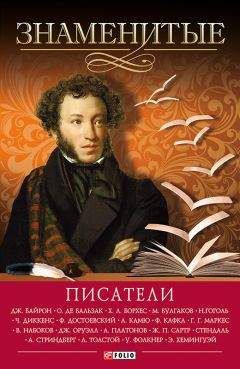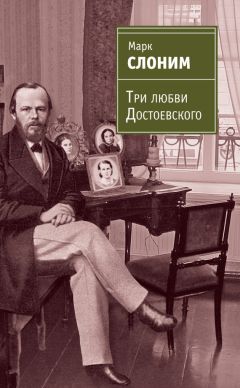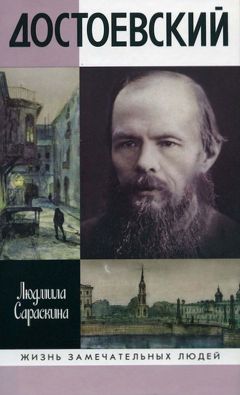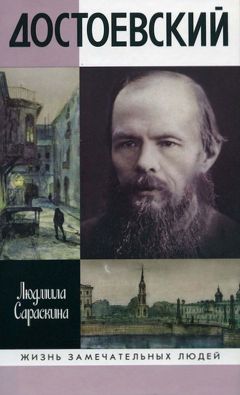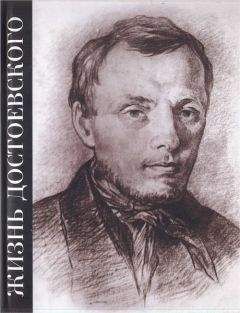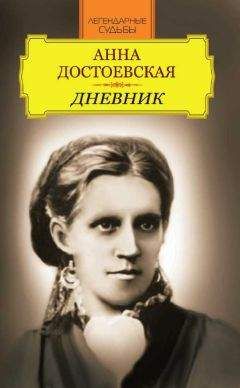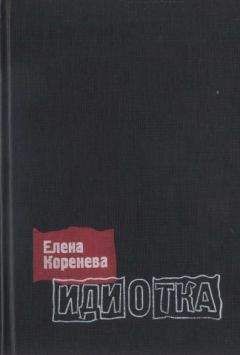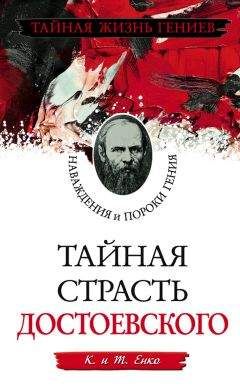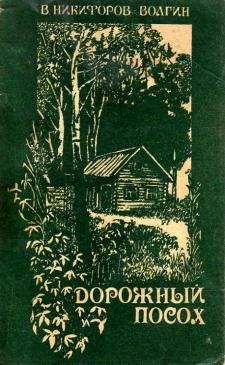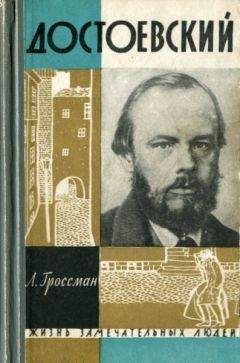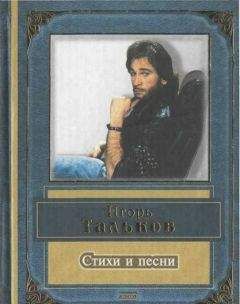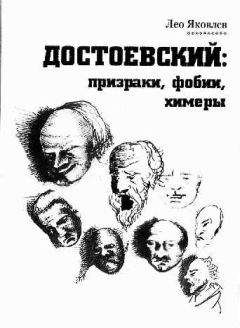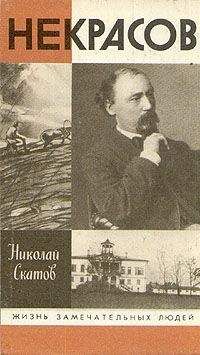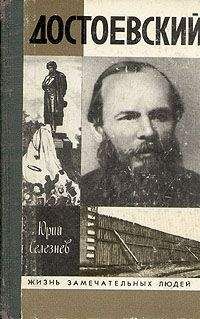Игорь Волгин - Последний год Достоевского
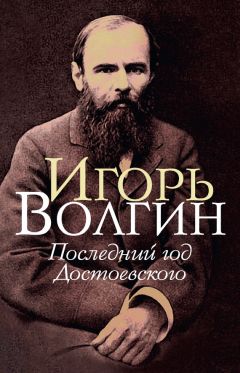
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Последний год Достоевского"
Описание и краткое содержание "Последний год Достоевского" читать бесплатно онлайн.
Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведенные на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе. В «Последнем годе Достоевского» судьба создателя «Братьев Карамазовых» впервые соотнесена с роковыми минутами России, с кровавым финалом царствования Александра II. Уникальные открытия, сделанные Игорем Волгиным, позволяют постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.
Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом – против его исконных врагов.
Но «очищенный», изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишённый к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.
Излишне было бы говорить об идеализации Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике российского абсолютизма не могла не вызвать у автора этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.
«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царёвым, – заносится в последнюю тетрадь и добавляется: – ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»[213]. «Что-то очень уж долго не верит» – эта сердитая, нетерпеливая, не предназначенная для «чужих» обмолвка выдаёт не только авторский темперамент, но и некоторое авторское разочарование в стратегии «верхов».
«Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит…» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если не поверит? Достоевский старается об этом не думать – в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ. – И.В.) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы»[214].
Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он как бы вменяет себе «массовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и прилагает поистине титанические усилия, чтобы интегрировать, «вписать» абсолютного монарха в свою историческую утопию[215].
Но, повторяем, – это звено оказывается лишним.
Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печётся Достоевский, то в нём не остаётся места для русского самодержца. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделённом от него самого и вознесённом над ним носителе религиозного или национального духа.
Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передоверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.
«Скажите теперь, какой ваш идеал?» – вопрошал он Тургенева, и «Вестник Европы» не без остроумия комментировал, что это – «пародия на великую историческую сцену: «рцы убо нам, достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни» (то есть «скажи нам, можно ли или нет давать подать кесарю». – И.В.) – с присоединением к фарисейству мимики Пилата, задавшего вопрос и не дождавшегося ответа»[216].
Но справедливо ли обвинять Достоевского в своего рода идейном провокаторстве, если его вопрос носил заведомо риторический характер и был обращён не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причём без всякой надежды на убедительный ответ?
Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развёл руками: этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.
Изучение мотивов«Хорош Достоевский! – восклицал Анненков в письме к Стасюлевичу, – не распознал у Тургенева идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишут на своих знамёнах… А между тем люди эти (Достоевский и Салтыков. – И.В.) не Авсеенки и Маркевичи и, несомненно, высокие таланты и честные деятели»[217].
Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признается «честность», хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского – при всей разности политических убеждений – могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».
И всё-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот бестактный выпад, который – а он не мог этого не предвидеть – неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он всё-таки сорвался?
Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос – не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно спланированная (как, скажем, речь того же Тургенева) общественная акция, а – чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.
Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.
«Общее чувство негодования… было так сильно, – вспоминает Венгеров, – что он должен был оправдываться и говорить: “Я ведь Тургенева очень ценю, я даже явился на обед во фраке…”»[218]
В этих наивных и, думается, искренних оправданиях («ценю» ещё не значит «люблю»!) – тоже весь Достоевский. Он всё-таки явился на чествование своего давнего врага, он, по-видимому, хотел быть сдержанным и «политичным», он даже постарался подчеркнуть своё отношение к виновнику торжества «формой одежды». Он честно пытался соблюсти все правила дипломатического (обеденного) этикета, но – «нет жеста», как не было его в молодости. И – сорвался: фрак не помог.
Конечно, идейные причины сыграли в этом эпизоде первенствующую роль. Но был здесь и своеобразный катализатор, ускоривший развязку: личное недоброжелательство (которое в конечном счёте тоже имело общественную подоплёку).
В том самом письме 1867 года, где излагается история размолвки с Тургеневым, Достоевский замечает: «Не люблю тоже его аристократически-фарсёрское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щёку. Генеральство ужасное…»[219]
Вскоре после 13 марта 1879 года Л. Оболенский (тот самый, который на обеде приветствовал виновника торжества стихами) посетил Тургенева. Он так передаёт свои впечатления: «Барин, чистокровный русский старый барин… Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности и только. Что он чувствовал, что он думал, это оставалось тайной. Его вопросы о литературе, о новых её течениях были как-то мимолётны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто он был или совершенно равнодушен к этой жизни или уверен, что её знает вполне…»[220]
Подобный тип поведения диаметрально противоположен поведенческим принципам Достоевского, не знающего усреднённо-вежливой, условно-безличной манеры общения.
Достоевский, как уже говорилось, не любил Тургенева.
Здесь не место останавливаться на «истории одной вражды», которая едва ли не началась в 1845 году пламенной дружбой. Затронем только один момент.
Достоевский не может принять Тургенева, помимо прочего, ещё и потому, что остро ощущает двойственность его общественного положения. Он записывает в 1875 году – «для себя»: «Вы продали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет.» “Записки охотника” и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные выстроена?»[221]
Запись злая и во многом несправедливая. Но в ней зафиксировано одно из главных обвинений – не столько даже в адрес самого Тургенева, сколько – людей его социального круга, обвинение, которое будет неоднократно повторено Достоевским в его публицистике и переписке.
Этот упрёк обращён ко всему русскому дворянству: отъезд на крестьянские деньги за границу (обычное явление после 1861 года) под угрозой, «что что-то страшное будет», – этот отъезд равносилен эмиграции внутренней, духовной. Разрыв между либеральной (в значительной части помещичьей) интеллигенцией и народом тем более трагичен, что одна из сторон, по мнению Достоевского, склонна рассматривать другую лишь в качестве объекта для своих небескорыстных экспериментов.
Впрочем, он полагает, что этот грех лежит на всей интеллигенции в целом.
«Анекдот этот верен»В черновых записях к седьмой книге «Братьев Карамазовых» слегка обозначен один мотив, который внешне никак не сказался в окончательном тексте. Автор набрасывает краткий и на первый взгляд не вполне понятный диалог.
«– Да народ не захочет.
Сем<инарист>: Устранить народ».
«Семинарист» – это, конечно, Ракитин. Его собеседник – Алёша Карамазов. Через несколько страниц мотив возникает вновь.
«Алёша: Да этого народ не позволит (как следует из контекста, речь идёт об упразднении религии. – И.В.).
– Что ж, – истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа… (помолчал).
– Нет, видно, крепостное-то право не исчезло, – промолвил Алёша»[222].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Последний год Достоевского"
Книги похожие на "Последний год Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Волгин - Последний год Достоевского"
Отзывы читателей о книге "Последний год Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.