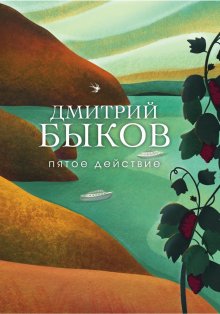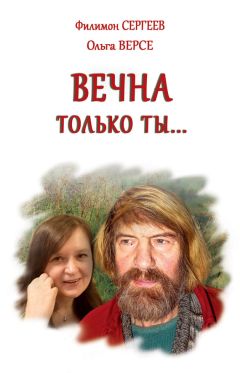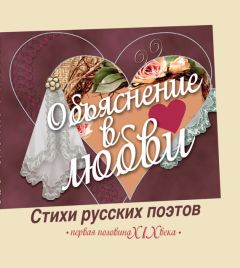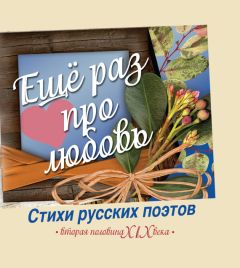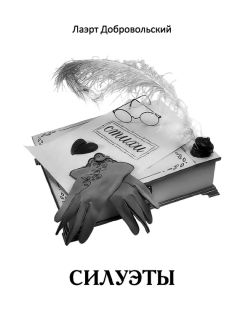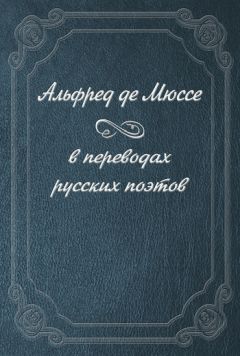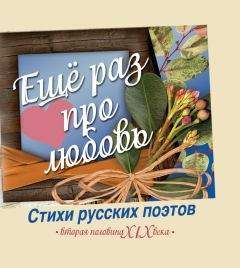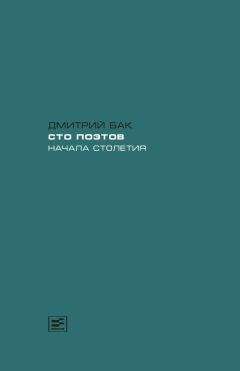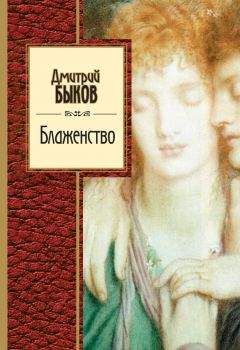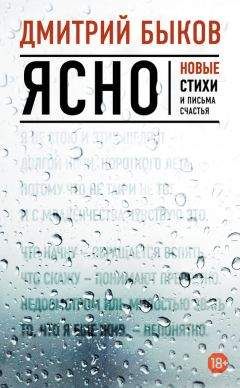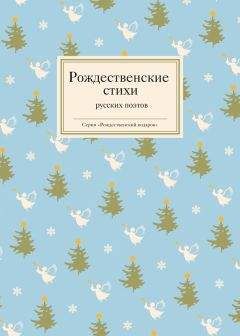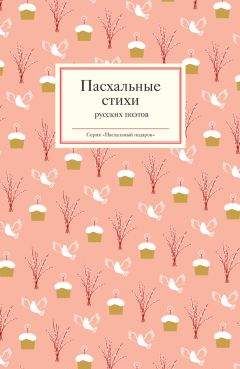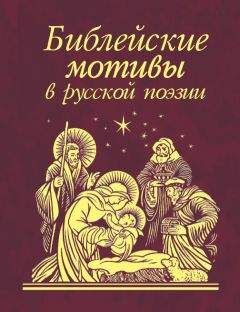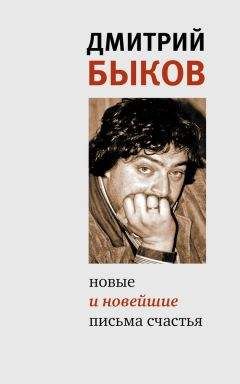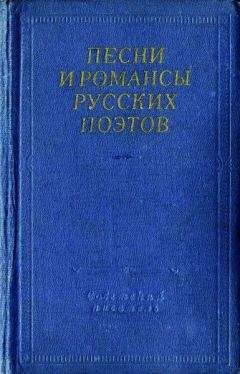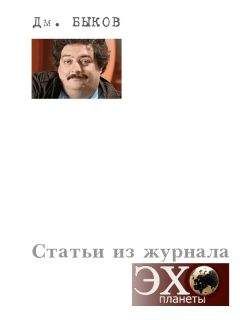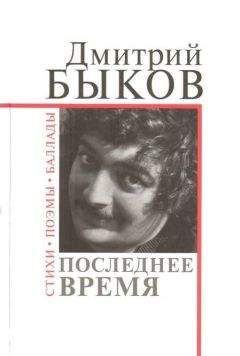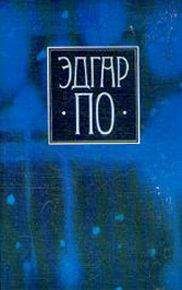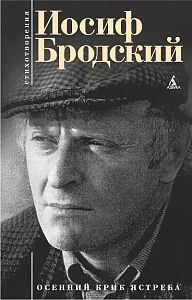Дмитрий Быков - О поэтах и поэзии
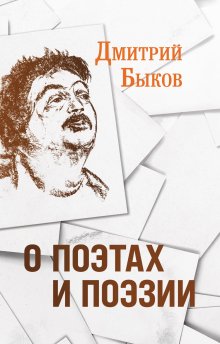
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "О поэтах и поэзии"
Описание и краткое содержание "О поэтах и поэзии" читать бесплатно онлайн.
В третьей части «Дзядов» существенней всего «Ustep», добавление или отступление, – цикл петербургских элегий, из которых наиболее значительны «Петербург», «Памятник Петра Великого» и «Олешкевич».
Много воды утекло в Неве с тех пор, как Мицкевич отбыл в Париж; случилось польское восстание 1831 года, во время которого Пушкин всерьез опасался, что Мицкевич помчится в Польшу и сложит голову, но он поучаствовал в польском движении иначе. Появилась ключевая его драматическая поэма. Пушкин написал немедленно дошедшие до Мицкевича стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», самое талантливое и полное выражение ресентимента в русской поэзии. Именно после них Чаадаев написал ему, что Пушкин наконец вырос в национального поэта, – иное дело, что это в устах Чаадаева так себе комплимент. Можно понять, объяснить, даже и принять этот излом пушкинской биографии: во всяком случае, у автора были, что называется, уважительные причины, куда более серьезные, чем государственный прессинг. Человек, принявший на себя роль первого поэта империи, согласившийся на личную цензуру царя и пообещавший ему лояльность в обмен на полное прощение грехов молодости, – нуждался в лирическом обосновании такой позиции, хотя бы и для себя самого. Правду сказать, в обоих патриотических стихотворениях 1831 года слышится некое самовнушение, понятный самоподзавод – человек, которого ни под каким видом не выпускают из России, должен внушить себе, что ему и не нужна никакая Европа, что она ему изначально чужда и враждебна. Не станем пенять на Пушкина за то, что в действительности было его трагедией, но признаем, что «Клеветникам России» – вероятно, самое риторическое и обиженное, что он написал, и вдохновлено это стихотворение не гордостью, а травмой. Мицкевич, однако, воспринял эти стихи как предательство идеалов, и его «К московским друзьям» – тоже результат обиды; нельзя отрицать лишь, что пафоса в этих стихах меньше, а живого чувства – больше:
А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?
Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть вольный голос мой предвестьем воскресенья —
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вещают пир весенний.
Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея —
Но вам распахнут был душою голубиной.
Когда же горечь слез прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась – что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:
Пусть разъедает желчь – не вас, но ваши цепи.
А если кто-нибудь из вас ответит бранью —
Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ жуткий:
Несчастный пес цепной клыками руку ранит,
Решившую извлечь его из подлой будки.
(Цитирую в переводе Анатолия Якобсона, более точном и темпераментном, чем хрестоматийный левиковский.)
Пушкин явно мог принять на свой счет слова о «холопском рвении» (хотя не с меньшим основанием можно их отнести и к Жуковскому, чья ода на взятие Варшавы была издана в одной брошюре с пушкинскими стихами), – Дмитрий Галковский полагает даже, что решение вывести Пушкина в «Памятнике Петра Великого» (вместо Вяземского) диктовалось желанием «застучать» бывшего друга. Едва ли Мицкевича вдохновляли мотивы столь низменные (хотя что взять с русофоба, как его теперь постоянно называют в критике известного направления!). Поясним лишь, что взаимная ненависть обычно – удел графоманов; подлинные поэты, вопреки словам Кедрина, друг друга не оплевывают, ибо нуждаются в равном собеседнике, а Пушкин и Мицкевич именно такими собеседниками не были избалованы; Пушкин вступался за Мицкевича перед Бенкендорфом в 1828 году – маловероятно, что гордый поляк отплатил бы доносом, да и не рассматривал он российское правительство как адресата. Пушкин ответил стихотворением «Он между нами жил» (10 августа 1834), которого не напечатал. Отношение его к полякам, как показал Цявловский, никогда не было особенно доброжелательным, – еще в 1824 году он соперничал с графом Олизаром за сердце Марии Раевской, причем оба были отвергнуты, но и тогда в послании к Олизару он подчеркнул, что войны войнами, а поэтическое родство священно:
Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Перед улыбкой муз небесной
Земная ненависть молчит…
Мицкевича он пытается утихомирить с интонацией несколько фарисейской, но от публичного выражения чувств воздержался; упоминания о нем в его стихах и письмах неизменно доброжелательны, но главное сказано в «петербургской повести».
Именно полемике с Мицкевичем обязаны мы появлением «Медного всадника» – последним и лучшим эпическим сочинением Пушкина. Первую подробную – и, пожалуй, лучшую – русскую статью об этом опубликовал Брюсов в 1909 году, ссылаясь на исследование поляка Йозефа Третьяка «Мицкевич и Пушкин» (1906). Он же детально исследовал те фрагменты текста Мицкевича, на которые Пушкин прямо отвечает (в том числе ссылается в комментариях); с тех пор мысль о польских корнях «Медного всадника» и его полемической заостренности стала общим местом. Пушкин внимательно читал «Ustep», выезжая из Петербурга летом 1833 года в Оренбург и застав начало очередного наводнения; все вступление в «Медного всадника», составляющее треть поэмы, – торжественный ответ на знаменитые строки:
У зодчих поговорка есть одна;
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
Собственно, и зародыш пушкинского сюжета содержится здесь же:
И десятеро прочь пошли, а там,
На площади, лишь пилигрим остался.
Зловещий взор как бы грозил домам.
Он сжал кулак и вдруг расхохотался,
И, повернувшись к царскому дворцу,
Он на груди скрестил безмолвно руки,
И молния скользнула по лицу.
Угрюмый взгляд был тайной полон муки
И ненависти. Так из-за колонн
На филистимлян встарь глядел Самсон.
Здесь на польского изгнанника глядит одинокий петербуржец, подходит к нему, хочет поговорить – но натыкается на глухое, недоверчивое молчание; а между тем двум славянам было бы о чем побеседовать – но никакого доверия к русскому польский тайный оппозиционер не чувствует. Пушкин развернул этот сюжет иначе, но источник его несомненен. Главный пафос «Медного всадника», однако, – не полемика и тем более не обида; взяв сюжет и декорации Мицкевича, Пушкин пытается ему показать, что все у нас на деле устроено несколько сложнее, и в суждении об этих вопросах нужно – как рекомендовал он молодому Белинскому, – «более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, – словом, более зрелости». Что говорит в нем – горький ли опыт, осмотрительность или в самом деле зрелость, – сказать трудно: все сразу. В политические перемены он к этому времени давно не верит: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». (В статье, условно называемой «Путешествие из Москвы в Петербург», следовало продолжение: «А те люди, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».) Это хоть и не авторская речь в «Капитанской дочке», но изображение пугачевского бунта и картина наводнения в петербургской повести подозрительно схожи бессмысленностью и беспощадностью. Да и британский путешественник Фрекленд вспоминает, что в 1831 году слышал от самого Пушкина подобные сентенции. Российская история – конфликт гранита и болота, взаимопонимание между ними невозможно, это так устроено. Раз в сто лет стихия бунтует – «и, пучась ветром от залива», затопляет город, причем первой жертвой становится ни в чем не повинный маленький человек, а Нева возвращается в берега и еще сто лет течет по-прежнему. Любопытно, что в «Дзядах» (стихотворение «Олешкевич») Мицкевич устами польского гидрографа дает сходный прогноз:
Я слышу: словно чудища морские,
Выходят вихри из полярных льдов.
Борей уж волны воздымать готов
И поднял крылья – тучи грозовые,
И хлябь морская путы порвала,
И ледяные гложет удила,
И влажную подъемлет к небу выю.
Одна лишь цепь еще теснит стихию,
Но молотов уже я слышу стук…
Польский художник, масон Юзеф Олешкевич – реальное лицо, центр польского кружка в Петербурге – только поляки в большинстве были высланы, а он переехал в столицу добровольно.
Пушкин пытался внушить Мицкевичу, что с этим порядком вещей – гранитной властью и болотистой страной – ничего не сделаешь, что никакое рабство тут не виновато, что принятие такого порядка вещей не есть холопство. Мицкевич в некрологе Пушкину замечал, что худшее в нем происходило от среды, а лучшее – от сердечных свойств, поистине превосходных.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О поэтах и поэзии"
Книги похожие на "О поэтах и поэзии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Быков - О поэтах и поэзии"
Отзывы читателей о книге "О поэтах и поэзии", комментарии и мнения людей о произведении.