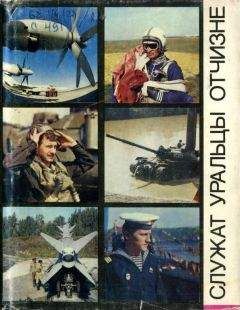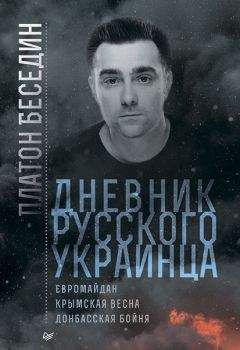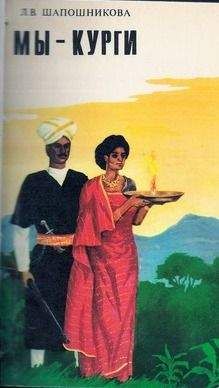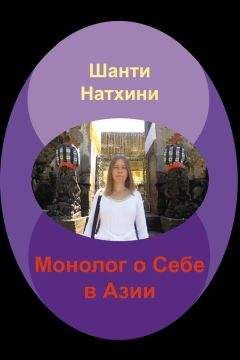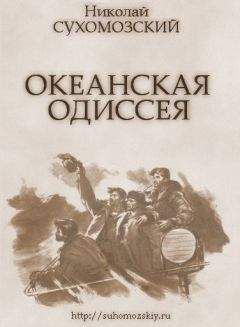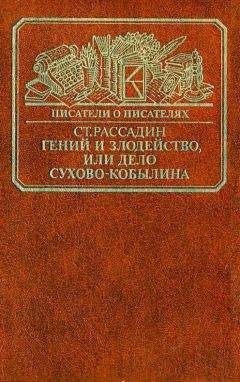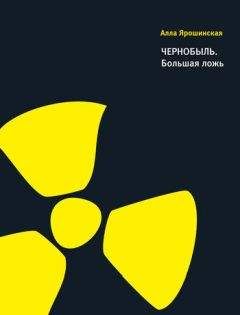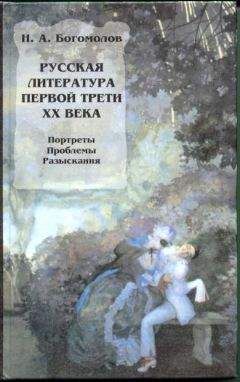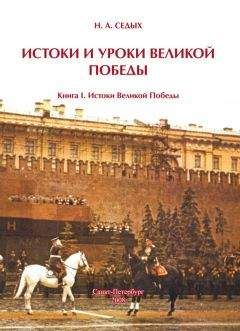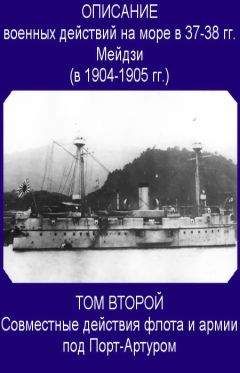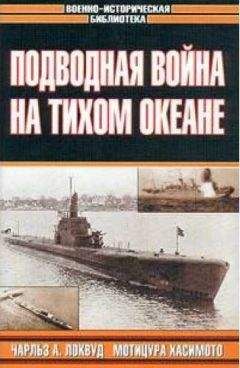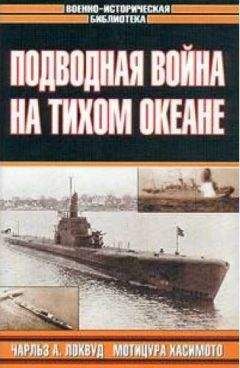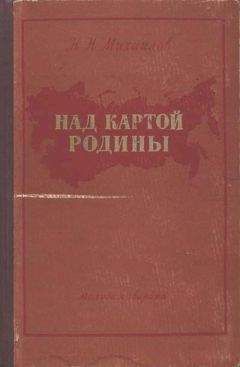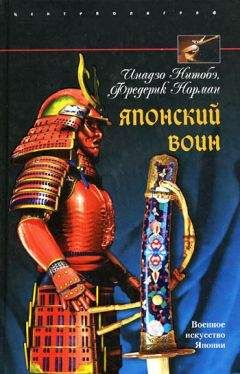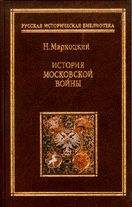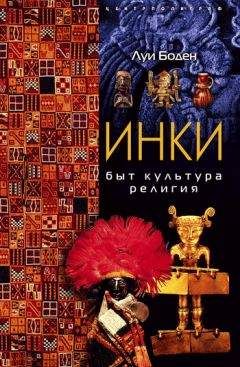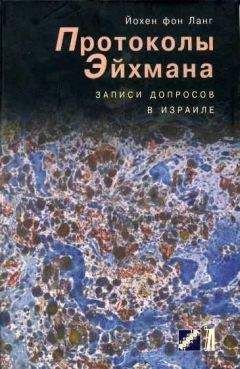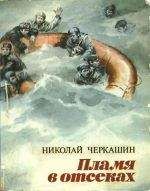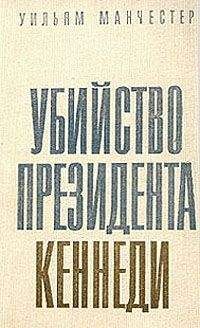Николай Федоренко - Японские записи
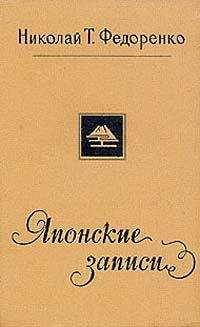
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Японские записи"
Описание и краткое содержание "Японские записи" читать бесплатно онлайн.
Известный советский востоковед Николай Федоренко длительное время находился в Японии на дипломатической работе. Ему хорошо знакомы жизнь этой страны, её литература и искусство.
«Японские записи» – итог личных наблюдений автора. Читатель найдёт в них интересные сведения об искусстве Японии, о её литературе, ярко написанные сцены из жизни простого японского люда – ловцов жемчуга, рыбаков, описания своеобразных японских обычаев.
Аракава сэнсэй встает со своего места на плоской подушке с изображением летящего дракона, лежащей на циновке, берет лист бумаги и кисть с тушницей, возвращается и начинает изображать на бумаге объясняемые иероглифы.
Я смотрю на руки каллиграфа, удивительно тонкие, с удлиненными, будто вытянутыми пальцами, в мелких трещинках, заполненных, как лакуны, черной тушью. И мне почему-то вспомнились строки Исикава Такубоку, лаконичные и емкие:
Вот – и работали,
Работали, а жизнь не стала легче.
И глаз не отвожу от рук своих.
– Интерес для нас представляет иероглифическое изображение знака «дао» в его становлении и развитии. Идеографическая структура «дао» состоит из двух основных пиктограмм: символа движения человеческой ноги, передаваемого китайским словом «го» (движение), и изображения головы, передаваемого словом «тоу» (голова). При этом обе пиктограммы – «го» и «тоу» – в общем сохранили древние формы иероглифической графики. Это помогает обнаружить не только простейшее выражение понятия «дорога», связанного с компонентом «го» (движение). Здесь также ясно обозначена пиктограмма «тоу», указывающая на голову человека во взаимосвязи с движением «го». Отсюда возникает понятие не простого пути или направления движения. В самой композиции пиктограмм «движения» и «головы» нельзя не усматривать некий единый комплекс, единую идею – «движение головы», то есть «движение мысли», «мышление». Такое понимание вытекает из природы символического изображения головы «тоу» как начала интеллектуального. Мы усматриваем в этом, таким образом, что здесь заложена идея духовного характера, идея внутреннего мира человека. Отсюда в идеографическом изображении «дао» обнаруживается идея пути выражения интеллектуального мироощущения человека.
Слушая Аракава сэнсэй, я смотрю на целые громады книг, плотно, словно добротная кладка кирпичной стены, лежащих на деревянных стеллажах. Длинные доски хорошо обструганы, чисты, без какого-либо покрытия или краски, чтобы не скрывалась их природа, натуральная окраска и рисунок.
Среди множества книг встречаю знакомые мне труды: «История Японии» Киеси Иноуэ, «Социальная история Японии» Китидзи Накамура, «Структура феодального общества в новое время» Такуя Хаттори и Горо Фудзита, «Феодальные города Японии» Такэси Тоеда, «География и древняя культура Японии» Кэйдзиро Фудзиока, «Книга перемен» (новая интерпретация) Вакиэн Минагава.
Даосизм занимает целый стеллаж. Здесь собраны наиболее известные исследования ученых, занимающихся изучением «Канона о пути и добродетели». Выделяется огромный фолиант в сером переплете из грубой мешковины: «Новое исследование Лао-цзы» Кимура. А рядом возвышаются тома в суперобложке из глянцевого наката – «Очерки иероглифической письменности» Акиясу и двухтомное издание «Дао (путь) изображения» (исследование ритуальной диспозиции китайского изобразительного искусства) Май-май Цзы, в горчичной обложке с иероглифическим тиснением и великолепными иллюстрациями.
В философском аспекте идеограмма «дао», поясняет Аракава сэнсэй далее, содержит два диаметрально противоположных начала. Во-первых, пиктограмма компонента «тоу» («головы») соотносится с понятием «тянь» – «неба», «небесного начала», символизирующего в традиционном мировоззрении всеобщую гармонию. Голова подобна небу, которое, согласно натурфилософским представлениям, имеет круглую форму, в отличие от земли, якобы представляющей собой квадрат. В знаменитом словаре XVIII века «Тушу цзи-чэн», являющемся наиболее полной энциклопедией китайской культуры, говорится, в частности: «Голова человека соответствует небу, являясь круглой, подобно небу, и, наоборот, ноги соответствуют земле, являясь квадратными, подобно земле, и находясь внизу».
Из этого вытекает важное следствие: согласно понятиям древних натурфилософов («иньянцзя»), основывающих свое учение на взаимодействии космических сил света и тьмы (Ян-Инь), «тоу» («голова») относится к положительному, мужскому, солнечному началу «Ян», в отличие от своей противоположности – «Инь» – темному, женскому, отрицательному началу. Во-вторых, пиктограмма «го» («движение») распадается на две составные части, особенно ясно выраженные в древнем начертании. Это – графический элемент, передающий слово «чи» и обозначающий движение левой ноги человека, и элемент, соответствующий слову «чжи» и символизирующий остановку, прекращение движения. И здесь, в свою очередь, обнаруживается мотивировка внутренней обусловленности действия, так как движение левой ноги, согласно той же натурфилософии, соотносится с действием негативной силы «Инь», в отличие от правой стороны, соответствующей позитивному началу «Ян».
– Изложенное, – добавляет собеседник, – приводит к заключению о том, что гносеологически в идеограмме иероглифа «дао» заложены понятия о противоборствующих силах «Инь» и «Ян», являющихся источником разных, диаметрально противоположных начал, порождающих столкновения и противоречия. Это, собственно, и определяет противоречивую природу доктрины «дао» с его, как это звучит на языке материалистов, единством и борьбою противоположностей. Именно об этом находим прямое указание у Лао-цзы, утверждающего, что «все вещи носят в себе Инь и Ян», представляющие собой два противоположных друг другу и взаимно обусловленных природных начала. Известно, что иероглифический знак «дао» существовал задолго до создания Лао-цзы философской системы даосизма. Встречался он ранее и в различных семантических сочетаниях, в частности в сочетании с тем же знаком «тянь» («небо»), образуя «тянь-дао», то есть «путь неба», «закон неба», и т. д. Интересны в этой связи следующие положения, содержащиеся в «Каноне о пути и добродетели»:
«Когда небо творит зло, кто знает причину этого?» [49]
«Небо его спасает, человеколюбие его охраняет». [50]
«Закон неба (тяньдао) не имеет родственников, он всегда на стороне добрых». [51]
Закрыв фолиант Лао-цзы и положив его рядом с собой на циновку, Аракава сэнсэй двумя руками берет массивные очки в дымчатой оправе, которые он надевает при чтении текста, и, аккуратно поместив их в бархатный футляр, продолжает медленно отпивать чай из керамической чашки.
– А теперь, – говорит он, не выпуская пиалу из руки, – разрешите вернуться к началу нашего разговора. Как вы, вероятно, заметили, японцы с усердием штудируют в университетах древнекитайские сочинения, стремятся понять мировоззрение мудрецов далекой старины. И можно без преувеличения сказать, что именно в Японии доскональнее, чем где-либо в другой стране, изучили классическое наследство Китая, чему, конечно, в немалой степени способствовало знание иероглифики. Более того, по всей вероятности, в Японии лучше, чем в любой другой стране, способны оценить философские и литературные памятники китайской древности. И все же это не может и не должно являться иллюзией, будто японцы не только изучали, но и заимствовали всю эту китайскую мудрость и лишь тем поддерживают свое духовное существование. Увы, такого рода впечатление, если оно продолжает иметь место, лишено основания и проистекает из заблуждения тех, кто склонен к сенсационным открытиям и экзотике. И висящий здесь каллиграфический свиток, выражающий совершенно определенные философские и эстетические взгляды автора, а вернее сказать, авторов – сына и отца, – может служить доказательством тому, что с Лао-цзы мы движемся в диаметрально противоположном направлении…
В ярком разливе весеннего солнца панорама камакурского побережья, которая простирается за огромным стеклом нашей веранды, приобрела какую-то прозрачную, эфирную позолоту, которая покрывает и зеркальную морскую гладь, и скалистый берег с опрокинутыми рыбацкими лодками, и серые глыбы камней. Сказочная роскошь грозных феодалов погребена под этими плитами, и вместе с ними похоронена устрашающая слава жадных до власти и богатства сегунов и дайме. И вместо средневековых самурайских дружин здесь носится теперь лишь яростный ветер, рождаемый дыханием океанского гиганта.
– Со дэс нэ… – заговорил вновь Аракава сэнсэй, – китайский даосизм, и, конечно, не только эта философия древнекитайских мудрецов, привлек пристальное внимание в Японии, но отнюдь не был нами воспринят, не стал мировоззрением японцев. Философия Лао-цзы и Чжуан-цзы, пожалуй, менее всего повлияла на философскую мысль Японии. Для нас это скорее увлекательная древность, которой мы любуемся и восхищаемся, но никогда не забываем, что это лишь тени старины. И кажется, это к счастью самой Японии, которая благодаря своему динамизму и творческой активности, а не даоскому недеянию и пассивности смогла двигаться столь стремительно и оказаться в ряду наиболее развитых стран. Если бы даосизм или конфуцианство действительно были заимствованы японцами, сделались их философией и руководством к действию, то едва ли Японии удалось добиться признаваемого всеми индустриального и научно-технического прогресса. И если эти системы древних мыслителей являются таким бесценным благом и чудодейственной панацеей, то почему же сами обладатели этого наследства в Китае, владеющие к тому же неисчерпаемыми людскими ресурсами, до сих пор не способны выбраться из технической и агрикультурной отсталости?! Неверен взгляд, будто вся философская мысль в старой Японии всецело вдохновлялась идеями китайской философии. Известно, что многое в ней идет от буддийской философии. Есть и некоторые течения философской мысли, которые развивались по оригинальной линии. В равной мере нельзя утверждать и противоположное: будто философская мысль в старой Японии развивалась совершенно независимо от китайской. Известно, что особенно сильно было влияние древних мыслителей, философии сунской школы и школы Ван Ян-мина. В отношении же современных японцев справедливо сказать, что они безусловно отдают предпочтение мировоззрению динамичному, движению активному, стремительному, порой агрессивному. И в житейской интерпретации об этом говорит также иероглифический свиток, висящий в парадной нише: «День без труда – день без еды».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Японские записи"
Книги похожие на "Японские записи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Федоренко - Японские записи"
Отзывы читателей о книге "Японские записи", комментарии и мнения людей о произведении.