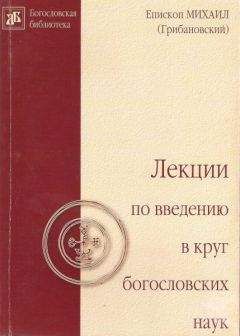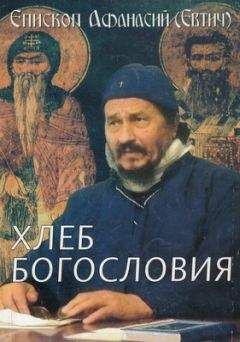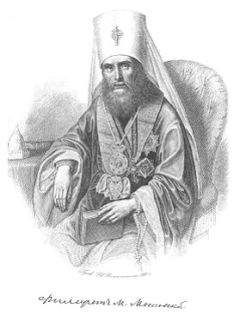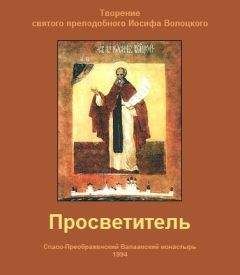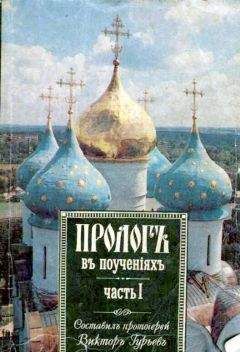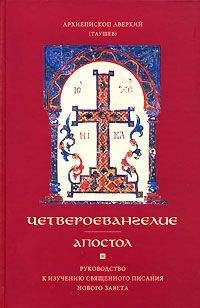Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути Русского Богословия. Часть I"
Описание и краткое содержание "Пути Русского Богословия. Часть I" читать бесплатно онлайн.
Георгий Васильевич ФЛОРОВСКИЙ (1893 - 1979) - русский богослов, историк культуры, философ. Автор трудов по патристике, византийскому богословию IV - VIII веков, истории русского религиозного сознания. Его книги "Восточные отцы четвертого века", "Византийские отцы" и "Пути русского богословия" - итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. "Пути русского богословия" - это монументальный труд, который может служить основным библиографическим справочником по истории духовной культуры в России.
Издание второе, исправленное и дополненное, 2003 год
Интернет-версия под общей редакцией
Его Преосвященства Александра (Милеанта),
Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.
Лабзин действительно сумел повторить типографический опыт того времени. Уже в 1803-м году он возобновляет издание мистических переводов, Юнга-Штиллинга и Эккартсгаузена больше всего. Это были его главные авторитеты или «образцы», — и еще Беме [37] и Сен-Мартен, отчасти же и Фенелон. [38] В 1806-м году Лабзин предпринимает издание «Сионского Вестника». В эти годы общая политическая обстановка еще не была благоприятна для такого издательства. Лабзин принужден был приостановить свой журнал. Лабзин сам указывает образец, которому следовал, — это были «Христианский магазин» Пфеннигера и Эвальда «Christliche Monatsschrift…»
Действительный размах мистическое книгоиздательство вообще получает у нас уже только после Отечественной войны, в связи с деятельностью Библейского общества. «Сионский Вестник» возобновляется уже только в 1817-м году, «по Высочайшему повелению», но снова не надолго…
На эти «мистические книги» был тогда достаточный спрос. Эти книги были тогда в руках у многих (мы можем о том судить по признаниям и воспоминаниям современников). Для той эпохи характерно, что мистицизм становится общественным течением и одно время даже пользуется правительственной поддержкой. Создается мистическое силовое поле. И в биографиях людей того времени мы обычно встречаем «мистический» период или хоть эпизод…
Проповедь Лабзина была проста и типична. Это смесь квиетизма и пиетизма, — проповедь «пробуждения» или «обращения» прежде всего…
Это был призыв к самонаблюдению и раздумью. И все внимание было сосредоточено именно на этом моменте «обращения». Это был единственный «догмат», который в новом учении признавался существенным. Отречение от горделивого Разума в богословии приводило к агностицизму [39] (иногда почти что к афазии [40] ). Весь религиозный опыт расплывался в какую-то зыбь пленительных и томительных переживаний. «В Священном Писании мы вовсе не видим никаких условий со стороны понятий о вещах Божественных». Разуму с его понятиями противопоставляется Откровение. Но не столько Откровение историческое или писанное, сколько «внутреннее», т. е. некое «озарение» или «иллюмннация». «Священное Писание есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце…»
Не так важны догматы и даже видимые таинства, сколько именно эта жизнь сердца. Ведь «мнениями» нельзя угодить Богу. «Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах, а одни только практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться». И потому все разделения между исповеданиями от гордости разума. Истинная Церковь шире этих наружных делений и состоит из всех истинных поклонников в духе, вмещает в себя и весь род человеческий. Это истинно-вселенское или «универсальное» христианство расплывается в истолковании Лабзина в некую сверхвременную и сверхисторическую религию. Она одна и та же у всех народов и во все времена, и в книге Натуры и в Писании, и у пророков, и в мистериях и мифах, и в Евангелии. Единая религия сердца…
У каждого есть свое тайное летосчисление, своя эра, — от дня рождения или обращения, от дня рождения или вселения Христа в сердце…
Для всей этой мистики очень характерно резкое различение ступеней или степеней, и эта несдержанная стремительность и торопливость в искании или приобретении каких-то «высших» степеней или посвящений. Только «низший класс людей едва оглашенных» довольствуется обрядовым благочестием в исторических церквах…
В этой мистике мечтательность и рассудочность странно сплетаются, есть в ней прекраснодушное упрощение всех вопросов, чрезмерная прозрачность и ясность. «Его разум представлял все ясно и просто, основывал все на законах необходимости, и на законе, соединяющем видимое с невидимым, земное с небесным. Итак, думал я, есть наука религии, — это было для меня большое и важное открытие» (Μ. Α. Дмитриев в своих воспоминаниях о Лабзине)…
О Лабзине мнения расходились. Многих привлекало и примиряло с ним его резкое и решительное выступление против вольтерианства и всякого вольнодумства. Это отмечает о нем даже Евгений Болховитинов: «многих отвратил если не от развращения жизни, то от развращения мыслей, бунтующих против религии». Филарет признавал за Лабзиным чистоту намерений. «Он был добрый человек, только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных…»
Другие судили о нем гораздо резче и совсем непримиримо. Иннокентий Смирнов считал переводческую деятельность Лабзина вполне вредной и опасной, и у него были единомысленники. Фотий видел в Лабзине одного из самых главных начальников ересей. Действительно, Лабзин был очень нескромен, настойчив и навязчив в своей пропаганде. Он не был терпим, у него был пафос обращения. И он имел успех. В его ложу входили, кажется, и духовные лица (называют двух архимандритов, Феофила и Иова). В ложу Лабзина входил и Витберг. Любопытно, что именно для Лабзинской ложи «Умирающего Сфинкса» был написан Херасковым известный гимн «Коль славен», этот типичный образец мистико-пиетического стихосложения того времени.
Другим очень стильным представителем тогдашних «мистических» настроений был Сперанский (1772–1834). Как и Лабзин, это был в сущности человек еще предыдущего века. Оптимист и резонер Просветительной эпохи в нем чувствуется очень остро. Современников Сперанский удивлял и даже пугал своей крайней от всего отвлеченностью. Он был силен и смел только в элементе отвлеченных построений, схем и форм, — а в жизни сразу уставал и терялся, не всегда умел соблюсти даже нравственный декорум. От своей природной рассудочности Сперанский не только не освободился через многолетнее чтение мистических и аскетических книг, но в этом искусе медитаций его мысль стала еще суше, хотя бы и тверже. Он достиг не столько бесстрастия, сколько бесчувствия. В этой рассудочности вся сила Сперанского, и в ней же его немочь. Он стал неподражаемым кодификатором и систематиком, он мог быть бесстрашным реформатором. Но его мысли не живут. Они часто бывают яркими, но остаются и тогда ледяными. И всегда есть что-то нестерпимо риторическое во всех его делах и речах. В его ясности и прозрачности было что-то оскорбительное, потому его никто не любил, да и сам он вряд ли кого любил. Это был очень умышленный и надуманный человек. Он слишком любил симметрию, верил во всемогущество уставов и во всесилие форм (в этой оценке сходятся Филарет и Ник. И. Тургенев). При всей смелости своего логического проектирования Сперанский самостоятельных идей не имел. Его ясный ум не был глубоким. Его мировоззрение было каким-то беззвучным, вялым, в нем не хватает именно мужества или живости. Само страдание он воспринимает как-то мечтательно…
Сперанский не был мыслителем…
И тем характернее, что человек такого типа и стиля был увлечен и вовлечен в мистический водоворот…
Сперанский был из духовного звания, прошел обычный курс духовной школы, потом был учителем и даже префектом в той же Александро-Невской главной семинарии, где учился. Но богословием заинтересовался он только позже. Около 1804-го года он сближается с И. В. Лопухиным и под его руководством вдается в мистическое чтение. В эти годы он читает всего больше «теософические» книги, — Беме, Сен-Мартена, Сведенборга. [41] Только позже, уже в ссылке, в Перми и в Великопольи, переходит он к «мистическому богословию», т. е. к квиетической мистике, отчасти, и к отцам, переводит книгу «О Подражании». В то же время он учится по-еврейски, чтобы читать Библию по-еврейски, — еще позже начинает учиться по-немецки, уже в Пензе…
Для Сперанского очень характерно типическое тогда различение «внешнего» и «внутреннего», скорее даже разрыв между ними. К истории Сперанский был более, чем равнодушен, об «историческом» и «внешнем» христианстве отзывался неприязненно и резко: «сие обезображенное христианство, покрытое всеми цветами чувственного мира». Своему школьному другу, П. А. Словцову, он писал однажды: «искать в Священном Писании наших бесплодных и пустых исторических истин и суесловного порядка нашей бедной пятичувственной логики, это значит ребячиться, забавлять себя безделками учености или литературы». Библия для Сперанского была книгой притч и таинственных символов, книга скорее мифическая или «теоретическая», чем историческая. Такое восприятие Библии очень характерно для всего тогдашнего мистицизма и пиетизма вообще. У Сперанского удивляет его рассудочное визионерство, игра схем, даже не образов. Любопытно, что к Юнг Штиллингу и к апокалиптике вообще Сперанский относился сдержанно, — в апокалиптике для него было слишком много, жизни и истории…
Сперанский был масоном. Но он примкнул не к розенкрейцерам, а к «сциентической» системе Фесслера. Де-Местр считал Сперанского «почитателем Канта», без достаточных к тому оснований… Вызов Фесслера очень характерен. Видный масонский деятель, реформатор немецкого масонства на более рационалистических и критических основаниях, он был вызван Сперанским для занятия кафедры во вновь тогда открытой Санкт-Петербургской духовной академии. Сперанский подчеркивал впоследствии, что Фесслер был вызван «по особому Высочайшему повелению». Вызван он был на кафедру еврейского языка, который и преподавал раньше во Львове (там его слушал Лодий, который и указал на него Сперанскому). Но с прибытием его Сперанский открыл в нем отличные сведения философские, и кроме еврейского языка ему была вверена и кафедра философская, «протектором» которой считался Сперанский…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути Русского Богословия. Часть I"
Книги похожие на "Пути Русского Богословия. Часть I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I"
Отзывы читателей о книге "Пути Русского Богословия. Часть I", комментарии и мнения людей о произведении.