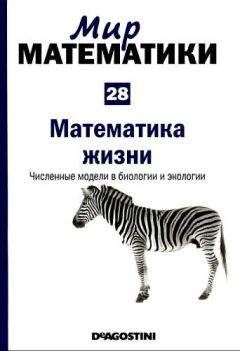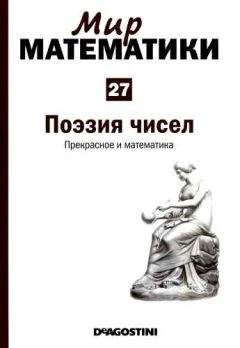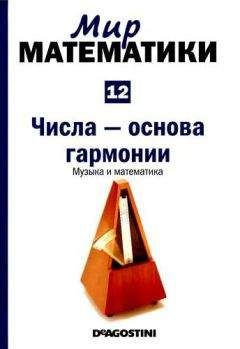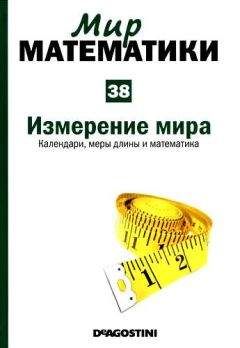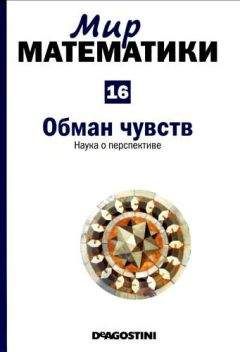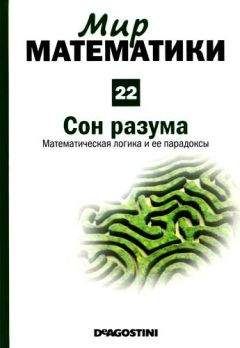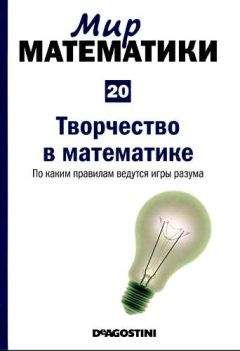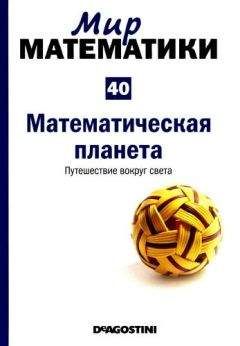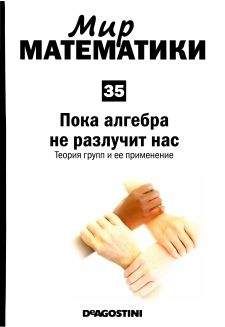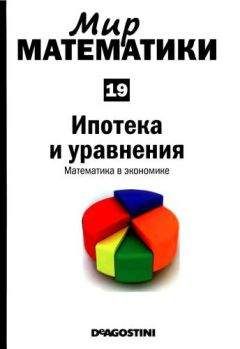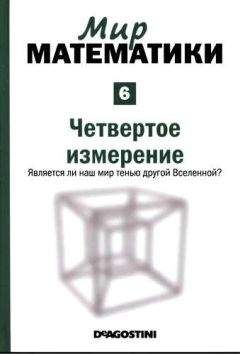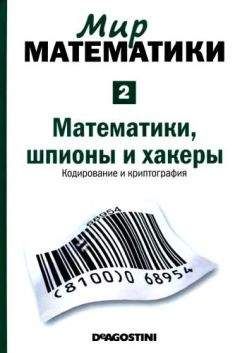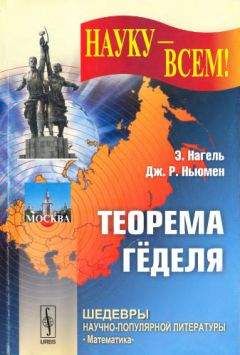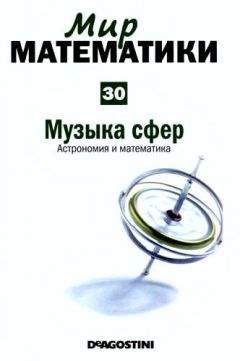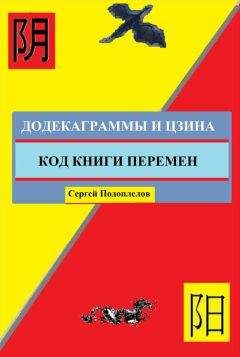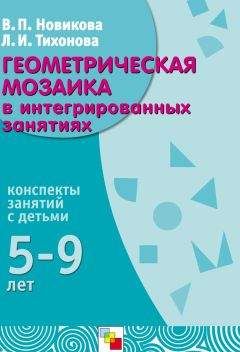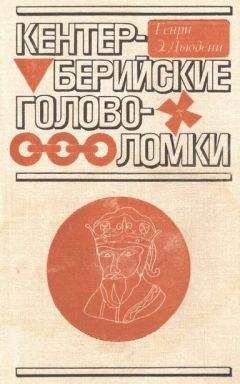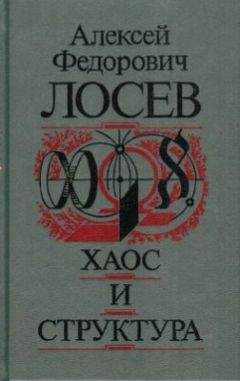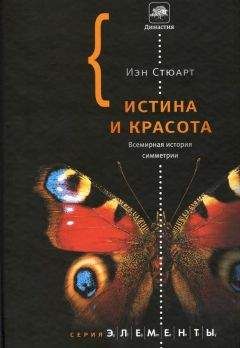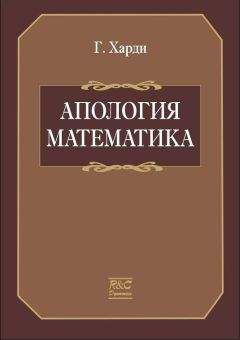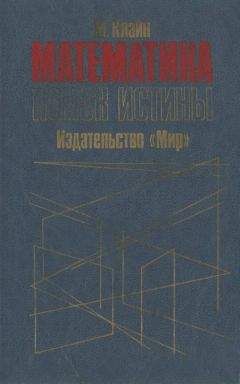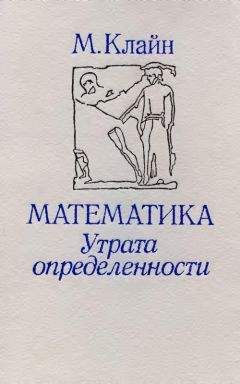Александр Гротендик - УРОЖАИ И ПОСЕВЫ
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Описание и краткое содержание "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ" читать бесплатно онлайн.
Первый перевод с французского книги «Recoltes et Semailles» выдающегося математика современности Александра Гротендика. Автор пытается проанализировать природу математического открытия, отношения учителя и учеников, роль математики в жизни и обществе. Текст книги является философски глубоким и нетривиальным и носит характер воспоминаний и размышлений.
Книга будет интересна широкому кругу читателей - математикам, физикам, философам и всем интересующимся историческими, методическими и нравственными вопросами, связанными с процессом математического открытия и возникновения новых теорий.
Итак, нет ничего удивительного в том, что после семидесятого года определенная амбивалентность (при том, что ее истинные истоки еще лежат где-то в неизвестности, скрытые глубоко в душе) развивала в моих новых учениках эдакое «классовое чувство» - как будто инстинктивную настороженность, недоверие к «руководителю». С одним из этих молодых людей, тоже моим учеником в той или иной мере, мы дружили десять лет кряду, ни разу не поссорившись. И все же, между нами, скрываясь за ширмой дружеской симпатии, неизменно вставала все та же странная двусмысленность: что-то оставалось невыясненным, что-то недоговаривалось. Я, впрочем, никогда не обманывался на счет этой, якобы шедшей изнутри, недоверчивости. Мне всегда казалось, что моему другу она нужна как предлог для того, чтобы не переступать определенных границ, которые он сам себе наметил - как в математике, так и в жизни вообще. Конечно, в этом он волен поступать, как ему заблагорассудится, и ни одна живая душа (разве что его собственная…) не вправе требовать от него объяснений.
Впрочем, «учет» на этом кончается: у меня было всего три ученика с ярко выраженной «классовой позицией». Конечно, бывает, что внутри
Примечания
«преподавательского состава» университета между коллегами разыгрывается ссора на «классовой» почве. Это выглядит тем более нелепо, что обе «враждующие стороны» пользуются, по сравнению с простым смертным, невероятными привилегиями; различие в чинах (и в зарплате) на этом фоне практически исчезает. Я заметил, что продвижение по службе всегда, как по волшебству, смягчает в людях «революционные настроения» - наверное, неспроста.
По моим наблюдениям, когда внутри математического мира (да и за его пределами) возникает конфликт, за ним почти всегда стоит некая двусмысленность. Повсюду я видел одно и то же: люди «устроенные» (по заслугам или нет - не так уж важно) пользовались беспримерными привилегиями. Никакая другая профессия или карьера не могла бы им предложить ничего подобного. Те же, кому в этом смысле не посчастливилось, стремились к той же надежности и к тем же привилегиям (это не значит, что математика сама по себе их не привлекала: они вполне могли успешно работать, находить красивые вещи). В наше время, когда конкуренция стала жестокой, а на неустроенных людей принято смотреть, как на эдаких горемык-недотеп, я не раз замечал как будто немой сговор между теми, кому нравится унижать других, и теми, кто сдается и сносит обиды. Ведь для проигравшего истинный объект горечи и озлобления - не тот, кто стоит у власти. Скорее, это не кто иной, как он сам, сдавшийся, позволивший другому вертеть своей судьбой, как тому заблагорассудится. Тот же, которому доставляет удовольствие унижать своего ближнего, на деле лишь отыгрывается за свои собственные обиды. Он пытается расплатиться (за ценой ему не угнаться: проценты растут…) за то, что сам в свое время перенес от других - что с того, что он успел с тех пор похоронить и забыть свое прошлое? А тот, кто готов терпеть его высокомерие, по природе своей его брат и соперник. Втайне завидуя богатому родственнику, он в своей горечи хоронит и унижение - и ту весточку к самому себе, которую мог бы в нем обрести, с досадой рвет и бросает прочь.
(23™). С тех пор, как были написаны эти строки, мне уже довелось побеседовать с двумя бывшими учениками «после семидесятого». С их помощью я надеялся понять, почему наша совместная работа с ними в целом не удалась. Они сказали мне, что я, как правило, недооценивал сложности материала, который предлагал им взять на вооружение.
Примечания
Определенные технические тонкости, привычные для меня, но не для них, давались им нелегко; я, как выяснилось, не отдавал себе в этом отчета. Они же падали духом: им казалось, что они не оправдывают моих ожиданий. К тому же (и это мне представляется еще более важным), я иногда «выбалтывал секреты»: сообщал им готовое утверждение вместо того, чтобы дать им возможность прийти к нему самостоятельно, причем как раз тогда, когда они были уже совсем близки к ответу. Это их разочаровывало: им оставалось лишь доказать утверждение - то есть, выполнить упражнение, а ведь это далеко не так интересно. В том-то и проявлялся мой «недостаток щедрости», о котором я говорил несколько раньше (в примечании (21)). Оба ученика, поделившиеся со мной впечатлениями о нашей совместной работе, в свое время начинали превосходно, но постепенно утратили интерес к математическим исследованиям. Часть ответственности за это (теперь стало ясно, какая именно), безусловно, лежит на мне.
Едва ли щедрости во мне было больше до 1970 г., чем после - это я хорошо понимаю. Если в те годы у меня не возникало подобных трудностей, то дело здесь не во мне, а в учениках. Молодые люди, приходившие работать со мной в те давние времена, были уже достаточно увлечены математикой, чтобы находить радость даже в «длинном упражнении», которое давало им лишнюю возможность изучить ремесло и попутно узнать массу полезных вещей. Всякий раз, когда я им «выбалтывал» одно исходное утверждение, они, оттолкнувшись от него, самостоятельно доходили до целой груды новых, куда более мощных. Перебравшись в Монпелье, я, естественно, изменил набор тем, который обыкновенно предлагал ученикам для работы. Теперь я стал выбирать такие объекты в математике, которые, даже не имея технической подготовки, было нетрудно представить себе и «почувствовать». Сделать это было необходимо - но не достаточно. Ведь мои новые ученики были настроены совсем иначе, чем прежние. И это оказалось куда существеннее, чем разница в уровне чисто технической подготовки. А впрочем, я ведь уже говорил (в начале §25): мне многого недостает, чтобы быть по-настоящему хорошим учителем. После семидесятого года эта нехватка ощущалась особенно остро.
(23v). Особенно ярко это различие проявилось в «истории с иностранцем», о которой говорится в §24. Многие совершенно незнакомые
Примечания
люди тогда выражали мне свое сочувствие - но я не помню, чтобы кто-либо из моих учеников «до семидесятого» хотя бы словом обмолвился на этот счет, не говоря уже о том, чтобы предложить мне помощь. Напротив, по моим воспоминаниям, никто из моих позднейших учеников не остался в стороне, а некоторые из них даже приняли деятельное участие в кампании, которую я проводил в Монпелье, «на местном уровне». Дело, связанное с распоряжением от 1945 г., взволновало не только моих учеников: многие студенты Университета Монпелье, едва лишь знавшие меня по имени, явились в день суда во Дворец Правосудия, чтобы оказать мне поддержку. Это, между прочим, позволяет предположить, что мои ученики «до 70-го» в этой ситуации вели себя совсем иначе, чем ученики «после 70-го» не только оттого, что те и другие по-разному ко мне относились: они просто мыслили по-разному. Очевидно, мои ученики «из прежних времен» сделались важными особами; солидного человека задеть за живое не так-то просто… Но история с моим уходом из IHES как будто показывает, что дело не только в этом. В то время они еще не достигли такого высокого положения в научном мире, и все же никто из них на моей памяти не проявил интереса к делу, которому я тогда отдавал все свои силы. Скорее, мое поведение внушало им беспокойство - всем без исключения. Итак, похоже, мои «прежние» и «новые» ученики действительно по-разному смотрят на вещи. Во всяком случае, одним лишь различием в «чинах» всего не объяснить.
(24). Это не просто этика математического ремесла: она приложима к любой научной среде. Для всякого ученого возможность придать гласности свои результаты и получить признание - вопрос жизни и смерти, и не только для его социального статуса. Речь идет о «выживании» человека как члена данной среды, со всеми вытекающими отсюда последствиями для него самого и для его семьи.
(25). Кроме этого разговора с Дьедонне, за всю мою жизнь как математика я не помню ни одного случая, чтобы при мне обсуждались в какой бы то ни было форме вопросы профессиональной этики. Сам я не задумывался о «правилах игры» и, кажется, никто из моих друзей об этом не заговаривал. (Здесь я не беру в расчет дискуссий о том, вправе ли ученые сотрудничать с военным министерством. В начале 70-х вокруг движения «Survivre et Vivre» такие разговоры велись
Примечания
в изобилии. Они, однако же, не имели прямого отношения к жизни математиков в рамках научной среды. Многие мои друзья, в том числе Шевалле и Гедж, считали, что в ту пору, особенно поначалу, я придавал слишком много значения «военному вопросу» (к которому я и впрямь был особенно чувствителен), не замечая более насущных проблем - как раз таких, о которых говорится на этих страницах.) С учениками я также никогда об этом не беседовал. Насколько я понимаю, по умолчанию всеми и всюду принималось одно-единственное правило (к которому, собственно, и сводилась этика ремесла): не выдавать намеренно чужих идей за свои. Это соглашение насчитывает века; мне думается, ни в одной научной среде его, вплоть до наших дней, еще никто не оспаривал. Но если не прибавить к нему второго правила, о праве всякого ученого предать гласности свои идеи и результаты, оно становится мертвой буквой. В современном научном мире те, кто стоят у власти, держат в своих руках всю научную информацию. Это - неограниченный контроль: теперь он уже не уравновешивается никаким соглашением, подобным тому, о котором говорил Дьедонне (и которое, возможно, даже в лучшие времена не распространялось за пределы узкого круга математиков). Ученый, занимающий высокое положение в научном мире, получает столько информации, сколько сочтет нужным (а зачастую и сверх того). В его власти не пропустить в печать большую часть работ со словами: «неинтересно», «более или менее известно», «тривиально» и проч. - и, однако же, использовать приобретенные знания с выгодой для себя. Я возвращаюсь к этому в примечании (27).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Книги похожие на "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Гротендик - УРОЖАИ И ПОСЕВЫ"
Отзывы читателей о книге "УРОЖАИ И ПОСЕВЫ", комментарии и мнения людей о произведении.