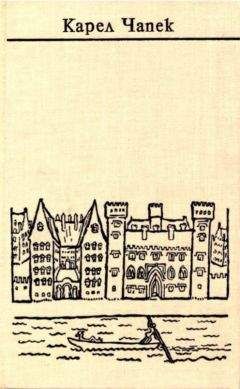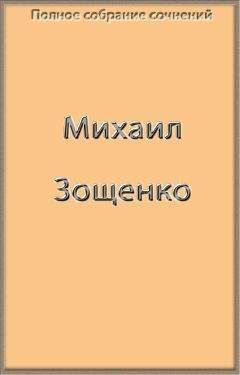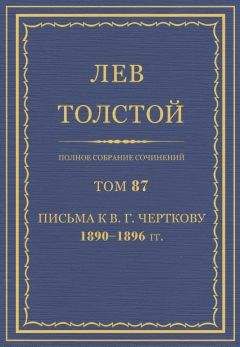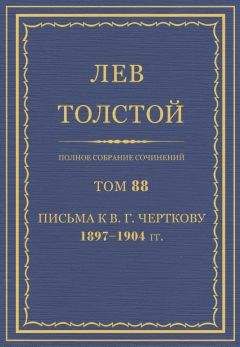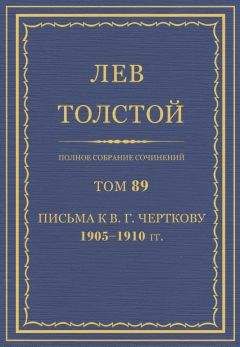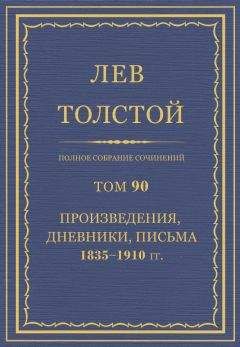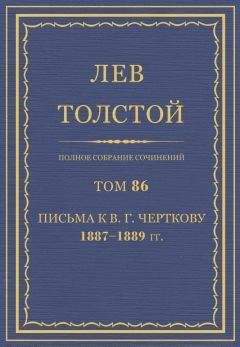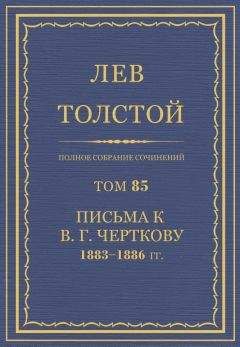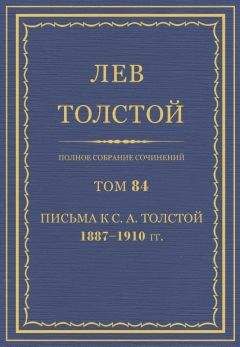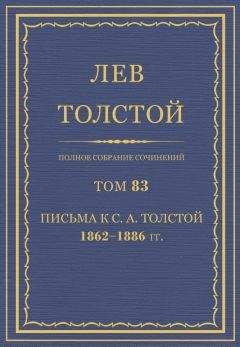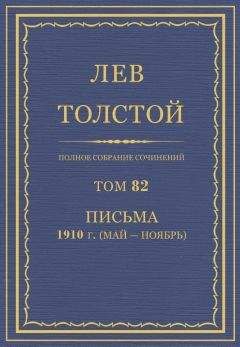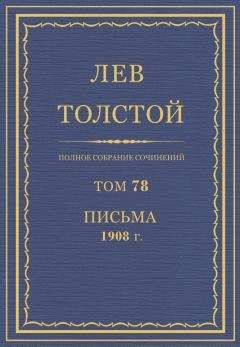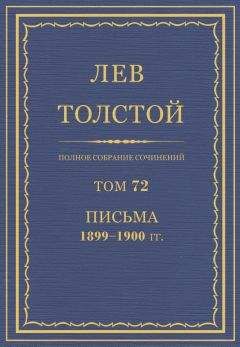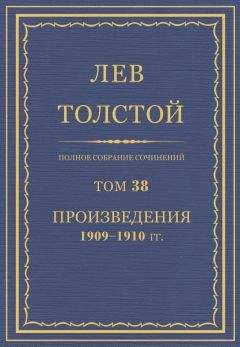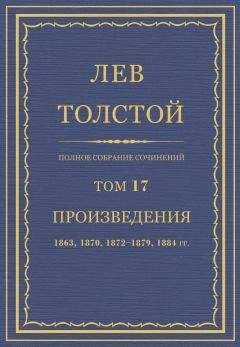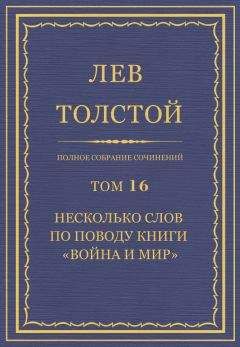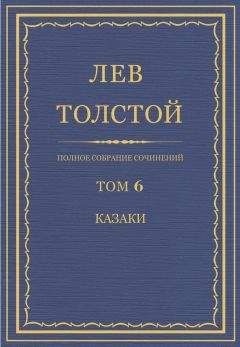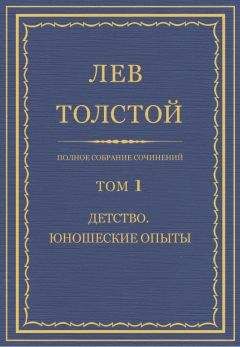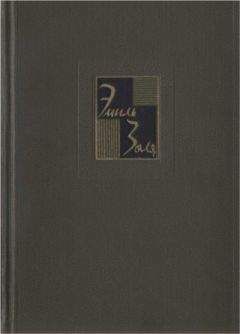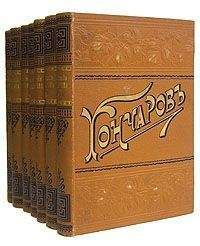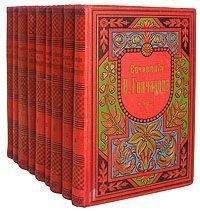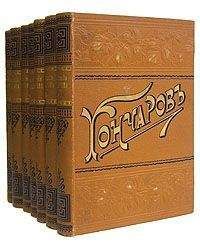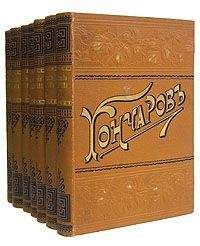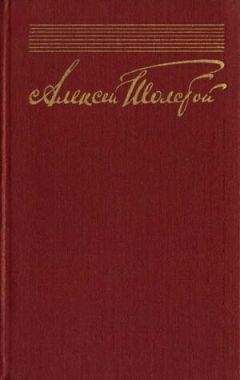Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6.
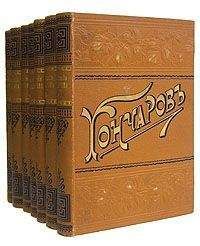
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Описание и краткое содержание "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6." читать бесплатно онлайн.
183
высоко оценили, Тургенев мог усмотреть в словах болезненно мнительного современника перелом к лучшему, признаки начавшегося «выздоровления». К сожалению, он ошибся – болезнь Гончарова только вступала в новую и злокачественную фазу. Не оказался Гончаров и «верным» судьей. В памфлетно-литературной исповеди «Необыкновенная история» конца 1870-х гг. он, в сущности, решительно пересмотрел свое мнение о повести Тургенева, этого ненавистного и коварного соперника («я один, по роду сочинений, был его соперником»), и даже высказал фантастическое предположение, что повесть возникла под непосредственным влиянием его письма к А. К. Толстому: «…я в одном из писем к гр. А. Толстому что-то заговорил о „Короле Лире” (мой взгляд на него), Тургенев вообразил, что я задумываю писать какого-нибудь миниатюрного Лира – и вдруг – бац – повесть „Степной король Лир”, где и снял уродливую карикатурную параллель с великого произведения, не уважив даже Шекспира, и подвел своих гнуснячков под типы гения! Это чтоб помешать мне: он вообразил, что я, говоря о Лире, хочу мазать тоже копию!». Гончаров теперь исключительно пренебрежительно пишет о некогда так ему понравившейся повести «трубадура», одновременно невольно демонстрируя, как она ему отчетливо запомнилась: «Он пробовал портить Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например „Степной король Лир”. Зачем было трогать великие вещи, чтобы с них лепить из навоза уродливые, до гнусности, фигуры? Можно ли так издеваться над трагическою, колоссальною фигурою короля Лира и ставить это великое имя ярлыком над шутовскою фигурою грязного и глупого захолустника, замечательного только тем, что он „чревом сдвигает с места бильярд”, „съедает три горшка каши” и „издает скверный запах”!!! Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи! Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если б мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь».
Не пощадил Гончаров и другие, по его классификации, «карикатурные параллели» и «копии» Тургенева: «„Гамлет Щигровского уезда” – тоже какая-то мелюзга: зачем подводить под эти фигуры своих вырезанных из бумаги
184
человечков! Уж портить так портить нас, мелюзгу…».1
Гончаров в отличие от Тургенева, Н. С. Лескова, А. К. Толстого и многих других избегал в названиях своих произведений прямых перекличек с великими сюжетами и образами Шекспира, Гете, Шиллера, Мольера, Данте, но – вне всяких сомнений – «подводил» своих героев (главных и второстепенных) «под типы гениев»: это относится даже к Ивану Савичу Поджабрину и слугам. Обломов, Ильинская, Штольц существуют в романе в контексте мировой литературы, соотнесены, в частности, с персонажами произведений Гете, Шиллера, Жорж Санд, Сервантеса, Байрона, Диккенса, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, и – что особенно подчеркнуто – Шекспира.2
185
***
Гончаров наделил своими литературными (шире – эстетическими) симпатиями любимых героев романа – Обломова, Штольца, Ольгу Ильинскую. Они прекрасно понимают друг друга с полуслова – произведения одних и тех же писателей, историков, философов, композиторов, художников, скульпторов образуют единую обширную и возвышенную эмоционально-эстетическую сферу, причем наиболее восторженным и чутким «реципиентом» в романе является Илья Ильич Обломов. Существуют, разумеется, между этими героями и различия. «Поэт» Обломов особенно восприимчив к поэзии и музыке; он вообще самый литературный и эстетичный герой романа – и его монологи даже по объему, не говоря о поэтичности и эмоциональности, намного пространнее монологов Штольца и Ильинской. С последней органично входит в роман остросовременная тема женской эмансипации, – неизбежным становится упоминание здесь и такой символической, уже легендарной литературной фигуры, как Жорж Санд.1
Что же касается Штольца, то его статус в романе строго выдержан: это персонаж идеальный, безупречный, своего рода герой нового делового промышленного времени. Гончарову немало досталось за образ идеального «героя-немца» от современных ему и поздних критиков самых разных направлений.
Хор недругов Штольца был настолько громок, что заставил Гончарова позднее признаться: «Он слаб, бледен – из него слишком голо выглядывает идея. Это я сам сознаю». Под непосредственным впечатлением от упреков патриотической
186
критики он готов был повиниться во всех грехах: «…я молча слушал тогда порицания, соглашаясь вполне с тем, что образ Штольца бледен, не реален, не живой, а просто идея.
Особенно, кажется, славянофилы – и за нелестный образ Обломова и всего более за немца – не хотели меня, так сказать, знать. Покойный Ф. И. Тютчев однажды ласково, с свойственной ему мягкостью, упрекая меня, спросил, „зачем я взял Штольца!” Я повинился в ошибке, сказав, что сделал это случайно: под руку, мол, подвернулся!» («Лучше поздно, чем никогда»). Но тут же Гончаров предпринимает энергичную попытку защиты Штольца, своего немца, и немцев вообще: «Между тем, кажется, помимо моей воли – тут ошибки собственно не было, если принять во внимание ту роль, какую играли и играют до сих пор в русской жизни и немецкий элемент, и немцы. Еще доселе они у нас учители, профессоры, механики, инженеры, техники по всем частям. ‹…› Я вижу, однако, что неспроста подвернулся мне немец под руку. ‹…›Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания.
Обрусевшие немцы ‹…› сливаются ‹…› с русскою жизнию. ‹…› Отрицать полезность этого притока постороннего элемента к русской жизни – и несправедливо и нельзя. Они вносят во все роды и виды деятельности прежде всего свое терпение, persevérance ‹настойчивость – фр.› своей расы, а затем и много других качеств, и где бы ни было – в армии, во флоте, в администрации, в науке, – словом, всюду – они служат с Россией и России и большею частию становятся ее детьми».1
«Немецкая система неизнеженного, бодрого и практического воспитания», противоположная «обломовской системе воспитания» (наст. изд., т. 4, с. 139), стала стержнем немецкой темы в романе и тем фундаментом, на котором вырос Андрей Штольц – антипод Ильи
187
Обломова.1 Конечно, немецкая тема в романе является частью европейской, как, впрочем, и русская, при всей ее степной, полуазиатской, сонной специфике.2 В сознании всех главных героев романа, принадлежащих к высшему образованному слою общества, русское и европейское слиты органично. Но в формировании личности Штольца немецкий элемент, естественно, был особенно значителен. Его воспитанием в строгом, систематическом духе руководил в детстве отец, приобщая сына к немецкой культуре и к разным видам деятельности: «С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных…» (там же, с. 152). В этой системе просвещения и обучения, унаследованной отцом Андрея («агроном, технолог, учитель») от своего отца, практические элементы гармонично сочетались с духовным, литературно-религиозным, в основе своей протестантским, воспитанием.3 Таков был грунт – то, чего было вполне достаточно для «бюргерской», «узенькой немецкой колеи». Дальнейшее развитие Штольца совершалось под мощным влиянием русской среды и поездок по Европе (Иена, Бонн, Эрланген). Систематическое и внимательное изучение европейской и русской жизни расширило его кругозор, – вступив на широкую дорогу, Штольц приобщился к величайшим достижениям европейской и русской культуры и науки. Видное место в этом интенсивном духовном развитии заняли сочинения Винкельмана, Гете, Шиллера, Канта (такой выбор ориентиров отчасти дублировал духовное развитие самого Гончарова – фактор, предопределивший
188
многомерное и многоаспектное присутствие немецкой стихии, немецких элементов в структуре романа).
Естественно, что пристрастия Штольца разделял Обломов; эта общность интересов возникла в детстве и укрепилась в юные «романтические» годы. Не случайно Обломов в письме к Штольцу (черновая рукопись романа) сообщал: «Я опять принялся за Винкельмана…» (наст. изд., т. 5, с. 222). Возвращение Обломова к Винкельману понятно – сочинения Винкельмана (наряду с произведениями Шиллера и Гете) Гончаров с энтузиазмом переводил в юности.1 Концепция античной красоты Винкельмана отражена в образеОльги Ильинской (см.: Мельник 1995. С. 18-20).
По мнению ряда исследователей романа, исключительно важное место в его художественной структуре занимают эстетические и педагогические идеи Шиллера, более всего шиллеровский идеал воспитания.2 Особенно здесь важны «Письма об эстетическом воспитании человека»
189
(1792-1794), где Шиллер развивает свою теорию о современном расслабленном, пассивном человеке, человеке-обломке, противоположном идеальному человеку, обладающему цельностью характера: «По мнению Шиллера, расхлябанность и нецельность суть приметы современного характера, так как законы и нравы, разум и фантазия, труд и наслаждение, усилие и вознаграждение „оторваны” друг от друга. Потеря принципа единства определяет нецельность человека; вывод Шиллера гласит: вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком…» (Тирген. С. 25). На эти же слова Шиллера о человеке-обломке обратил внимание В. И. Мельник, который, придав им неоправданно универсальный смысл, отнес их помимо Обломова почти ко всем героям романа – не только к Волкову, Судьбинскому, Тарантьеву, Алексееву, но даже к Штольцу (см.: Мельник 1985. С. 22).1
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Книги похожие на "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Отзывы читателей о книге "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6.", комментарии и мнения людей о произведении.