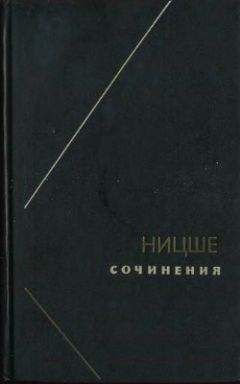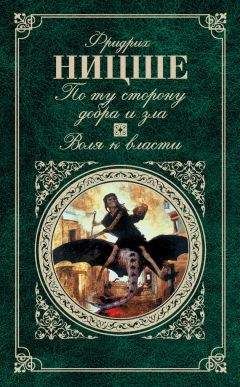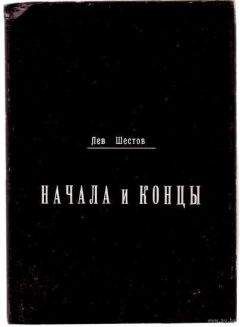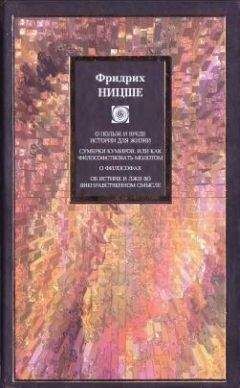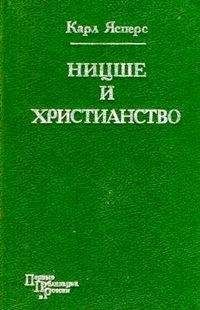Лев Шестов - Добро в учении гр. Толстого и Ницше

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Добро в учении гр. Толстого и Ницше"
Описание и краткое содержание "Добро в учении гр. Толстого и Ницше" читать бесплатно онлайн.
В чем же была эта опасность, от которой чуть не погиб Ницше? Как всегда, – наиболее важное и значительное в жизни писателя событие остается для нас тайной. В пояснение приведенной выше цитаты мы можем лишь выписать другие отрывки из его произведений; но и в них мы найдем лишь признания общего характера. Конкретный, действительный факт, по всей вероятности, никогда не будет назван своим настоящим именем. Какое «innere Besudelung» кроется под всеми признаниями Ницше? Он много ужасного, как помнит читатель, рассказывает о психологии великих людей – но все тоже в относительно общих словах. Как ни трудны такие признания даже тогда, когда их делают в непрямой форме, – но их все же легче вырвать из себя, чем рассказать о действительных своих переживаниях.
Ницше спрашивает: «В чем твоя величайшая опасность» и отвечает: «В сострадании». Рядом с этим другой вопрос: «В чем проявляется высшая гуманность?» Ответ: «Jemandem Scham ersparen».[30] Очевидно, сострадание и стыд погубили его. Впоследствии, когда он вспоминал, что делали с ним сострадание и стыд, эти исполнительные агенты нравственности, воплощающие собою внутреннее принуждение, его охватывал мистический ужас и то отвращение к морали, в pendant к которому может быть приведено только отчаяние самых страшных преступников при воспоминании о совершенных ими злодействах. Я говорю «самых страшных», т. е. таких, для которых нет и не может быть спасения, которые знают, что они навеки погубили свою душу, что они преданы навсегда во власть сатаны, говоря языком Макбета, – ибо обыкновенные укоры совести даже у глубоких и сильных людей не могут пойти в сравнение с переживаниями Ницше. Мы знаем исповедь гр. Толстого, мы понимаем, из какого настроения самопрезрения родилась «Крейцерова соната». Но это все еще не то. Гр. Толстой находил под мужицкой одеждой и за работой в поле не только успокоение, но и отраду – хотя бы лишь и на время. У Ницше же под каждой строчкой его сочинений бьется измученная и истерзанная душа, которая знает, что нет и не может быть для нее милосердия на земле. И ее «вина» лишь в том, что сострадание и стыд имели слишком большую власть над ней, что она видела в нравственности – Бога и поверила в этого Бога, наперекор всем основным инстинктам своим…
Гр. Толстой теперь говорит, что «добро – есть Бог!» Его прошлая жизнь, его личный опыт были таковы, что проверить возвещаемый принцип он не мог. Хотя он и искал добра всю свою жизнь, но, как помнит читатель, он всегда умел укладывать это добро на прокрустово ложе собственных нужд. Смотря по обстоятельствам, он то его вытягивал, то обрезывал, т. ч. оно не смело отказать в своем благословении Левину даже тогда, когда он, забыв и сострадание, и стыд, которые когда-то мучили его, принял настолько скромный и благообразный вид, что мог свободно фигурировать на страницах «Русского Вестника». У Ницше этого не было. Со всей наивной беспечностью и горячей верой немецкого идеалиста он и душу, и тело свое отдал своей святыне. И тем не менее, укоры совести преследовали его со всей той силой, о которой повествует Шекспир в «Макбете». И не за то, что он не послушался добра, а за то, что он честно и верно – пред другими и пред самим собой – исполнял свой «долг». Если «внутренний голос» является решительным судьей прошлой жизни человека, если «душевные муки раскаяния» служат показателем в вопросах добра и зла, как утверждали до сих пор философы и психологи, если приговор «категорического императива» не имеет над собой высшей инстанции, – то история Ницше проливает совершенно новый свет на наши представления о морали. Все те настроения, которыми до сих пор поддерживались суверенные права нравственности, которыми можно было грозить беспокойным ослушникам категорического императива, оказались безличными, двуличными слугами, одинаково ревностно исполняющими свои инквизиторские обязанности независимо от того, исходит ли приказ от оскорбленного добра или пренебреженного зла. Более того, повторим это, у гр. Толстого нет такого ужаса пред своей греховностью в прошлом, как у Ницше при воспоминании о его праведной жизни. Пренебреженное «добро» простило гр. Толстого, когда он раскаялся и стал свидетельствовать против своего прошлого; но зло не помиловало Ницше, хотя он отрекся от своей праведности и прославлял грех в таких страстных гимнах, какие и на долю добра, так избалованного в этом отношении, не часто выпадали. До самых последних минут жизни Ницше во всем, что он писал, чувствуется такое глубокое, такое безысходное отчаяние от сознания, что нельзя смыть с себя позор прошлой добродетельности, от которого бросает в дрожь всякого человека, догадавшегося, какие переживания таятся под блестящими речами несчастного писателя.
Правда, Ницше нигде почти прямо и открыто не рассказывает о своем прошлом: такое прошлое не рассказывается. Наоборот, он всеми силами старается скрыть свои переживания, и ничего не льстит больше его измученной душе, чем надежда остаться неразгаданным. Когда Брандес назвал его учение «аристократическим радикализмом», т. е. применил к Ницше два пошлых или опошленных слова (у датского критика непочатый угол таких слов), даже с внешней стороны не характеризующих философии Ницше, этот последний был в восторге и утверждал, что это самое умное, что он слышал о себе. Вернее, в словах Брандеса Ницше видел лишь доказательство, что его цель достигнута, что люди настолько ослеплены его литературой, что не думают о нем самом. А это именно ему и нужно было. Он всего более боялся быть разгаданным и потому придавал своим признаниям такую форму, будто они никакого отношения к нему не имели. Брандес, сам всегда пишущий о том, что к нему никакого отношения не имеет, спокойно поверил, что «аристократический радикализм» – это все, что можно найти у Ницше. Как мало такие слова объясняют Ницше или вернее, как далеко они уводят от Ницше, может пояснить следующий отрывок из одного его афоризма: «Бывают „веселые люди“, которые пользуются веселостью, как средством, ибо, благодаря ей, они надеются остаться непонятыми: они хотят быть непонятыми. Бывают ученые люди, которые прикрываются наукой – ибо наука придает веселый вид, и затем, ученость наводит на мысль, что человек поверхностен: они хотят привести к ошибочному заключению. Бывают смелые libres esprits, которым бы хотелось скрыть от людей свои разбитые, гордые, неизлечимые сердца (цинизм Гамлета, случай Галлиани), – иногда даже глупость служит маской для несчастного, слишком несомненного знания (unseliges allzugewisses Wissen)… Из всего этого следует, что гуманность требует, чтоб люди относились с уважением к маске и не проявляли неуместную психологическую проницательность и любопытство».[31] В другом месте Ницше замечает: «Разве книги не затем пишутся, чтоб скрыть то, что таишь в себе».[32] Но если «маска» многое скрывает, то часто она еще более выдает. Общая история Ницше все-таки сказывается в его сочинениях, и его «обоснования морали» так или иначе выясняются пред внимательным читателем. Само собою разумеется, что здесь не может быть и речи о логическом или историческом обосновании. И в этом-то вся оригинальность и весь интерес философии Ницше, в этом – его право на наше исключительное внимание. Если бы он коснулся своей «проблемы морали» лишь щупальцами холодного разума – как бы они чувствительны ни были – иными словами, если бы он лишь отыскивал для нравственности место в той или иной философской системе – он, наверное, не пришел бы ни к каким новым результатам. Он сохранил бы неизбежный категорический императив, которым явления нравственной жизни отделяются от других явлений нашей психики и, смотря по тому, какая школа пришлась бы ему по вкусу, говорил бы либо о непосредственной интуиции, либо о «естественном» происхождении моральных представлений. Из этого заколдованного круга логических построений нет возможности выбраться посредством логических же рассуждений. До тех пор, пока совесть предполагается стоящей исключительно на страже «добра» – а все доселе существовавшие системы нравственности обязательно основывались на этом предположении, и Канту только принадлежит термин «категорический императив» – до тех пор точка зрения Ницше была решительно невозможна. Если только «добро» охраняется угрызениями совести, то, очевидно, оно должно быть выделено в особую категорию, хотя бы тысячу раз было доказано «естественное» происхождение нравственных представлений. Исследования английских философов и психологов служат наилучшей иллюстрацией этого. Если нравственность – только переряженная польза, если она – только выражение общественных отношений, то, очевидно, у нее должны быть отняты все ее святые атрибуты, и ее нужно поставить в уровень с чисто полицейскими распоряжениями (тоже очень полезными, даже необходимыми), охраняющими порядок и безопасность людей. Но вера в святость нравственности была так глубока, убеждение в том, что «чистая совесть» – самое драгоценное сокровище в мире, последняя и самая прочная опора человека, – настолько срослось с обычными представлениями людей, что английским мыслителям не могло даже и на минуту прийти в голову подозрение, что объясненная нравственность может лишиться того престижа, который имела нравственность необъясненная. Они были вполне убеждены, что никакие теории не могут разрушить обаяния святости морали – и именно потому так безбоязненно называли пользу прародителем нравственности. Их исследования вовсе не имели своей задачей проверить закономерность притязаний нравственных людей на исключительные привилегии душевного спокойствия, всеобщего уважения и т. д. Это значило бы восстать на самих себя – чего добровольно никто не делает. Если и писались книжки, то исключительное научной, т. е. невинной целью, из беспечной любознательности, заранее уверенной, что серьезных жертв от нее не потребуется. Вопрос шел только о торжестве постороннего, чисто внешнего философского принципа, непосредственной связи с личной судьбой философа не имевшего. Есть ли нравственность потомок пользы или дитя интуиции – все равно она оставалась в одинаковом почете, и результат исследования никоим образом не мог передвинуть самого философа из разряда добрых в разряд злых, уготовить ему макбетовские терзания. Милль или Спенсер даже для формы не ставили такого вопроса: точно ли им полагается быть спокойными, а преступникам – угрызаться? Такой вопрос они сочли бы «безнравственным»: это значило бы сомневаться в том, что выше – добро или зло. А в этом они не только не сомневались, но даже не знали, что в этом можно сомневаться, что кто-нибудь когда-нибудь усомнится в этом. Они говорили лишь о том, почему добро выше зла, и то не затем, чтобы уверить себя в своей правоте, а лишь в силу привычки всюду приставлять это «почему», где только его можно как-нибудь приладить. Но за всем тем они были глубоко уверены, что святые прерогативы нравственности останутся сохраненными, к каким бы результатам ни привели их исследования, и что макбетовские истории останутся навсегда для Макбетов и их, философов, никоим образом коснуться не могут. Поэтому Ницше был совершенно прав, утверждая, что он первый возбудил вопрос о нравственности. Он говорит: «Во всей доныне существовавшей науке о морали недоставало – как странно ни звучит это – самой проблемы нравственности, не существовало даже и подозрения, что здесь есть что-либо проблематическое. То, что философы называли обоснованием морали и чего они требовали от себя, было только, в сущности, ученой формой доброй веры в господствующую мораль, т. е. одним из фактов в пределах этой же морали, иначе говоря, в конце концов, просто отрицанием того, что мораль может быть представлена в виде проблемы».[33] И, – что самое важное, – своеобразное отношение Ницше к нравственности не явилось результатом отвлеченных рассуждений. Вопрос о значении нравственности разрешился не в голове Ницше и не путем умозаключений – а в глубоких тайниках его души и через мучительнейшие переживания. И на этот раз, как всегда почти, – чтоб явилась новая истина, потребовалась новая Голгофа. Понять и оценить значение нравственности мог лишь тот, кто всего себя принес ей в жертву. Ницше исполнил все ее требования, во всем подчинился ей, заглушил в себе все протесты против нее, сделал ее своим Богом. И, как истинно верующий человек, он не только в поступках своих, но даже в мыслях не изменял своей святыне, не разрешал себе никаких сомнений в ее божественном происхождении. Он во всей полноте проверил на себе выдвигаемую теперь гр. Толстым формулу – «добро есть Бог», т. е. ничего, кроме добра, не нужно искать в жизни. Страшным откликом на эту веру его юных дней являются слова Заратустры: «Замолчанные истины становятся ядовитыми». Только тот, кто, как Ницше, всего себя отдал одной истине и замолчал все другие – может говорить о ядовитых истинах. Для других людей истина – только более или менее удачная и остроумная гипотеза. Вера в суверенные, божественные права морали отравила душу Ницше, и этот яд жег его до последней минуты сознательной жизни. Философия его – не дерзновенная игра испытанного ума, ищущего смутить спокойствие ближних насмешливым сомнением в святости их идеалов. Уже самый тон его сочинений, столь глубоко серьезный и страстный, исключает такое предположение. Правда, он иногда пытается изобразить из себя человека, играющего святынями. Но это все – напускное. Это – zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmaks, которую люди, как он говорит, напускают на себя, чтобы казаться поверхностными и скрыть свои настроения. Под этим кроется «страшная уверенность человека, который много страдал, – что в силу его страданий ему дано больше знать, чем знают самые ученые и самые мудрые».[34] И что он знал? В чем его тайна? Она, действительно, ужасна, и ее можно передать в немногих словах: «Мучения Макбета уготовлены не только для тех, кто служил злу, но и для тех, кто служил добру». Ницше первый сказал это. А «первенцы приносятся в жертву» – die Erstlinge werden geopfert. Заратустра испытал это на себе.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Добро в учении гр. Толстого и Ницше"
Книги похожие на "Добро в учении гр. Толстого и Ницше" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Шестов - Добро в учении гр. Толстого и Ницше"
Отзывы читателей о книге "Добро в учении гр. Толстого и Ницше", комментарии и мнения людей о произведении.