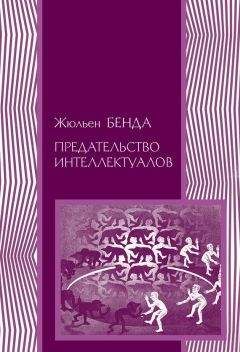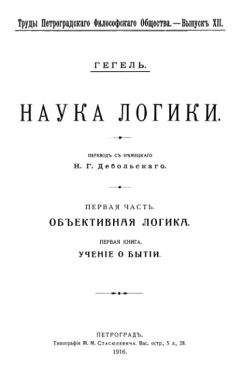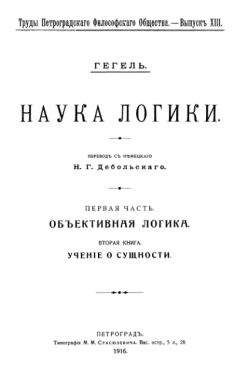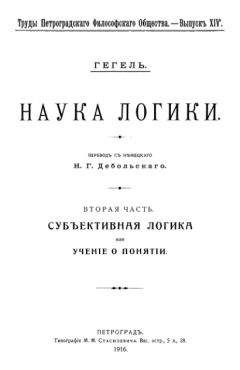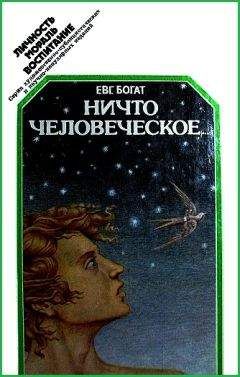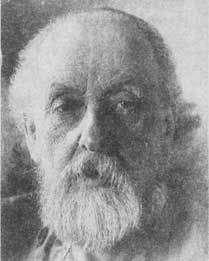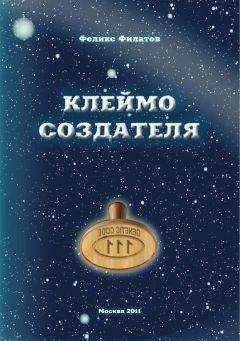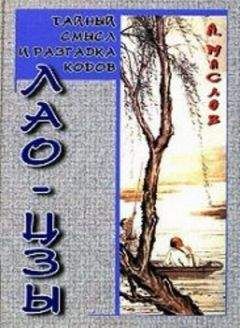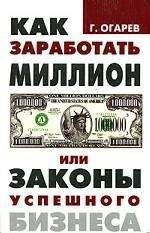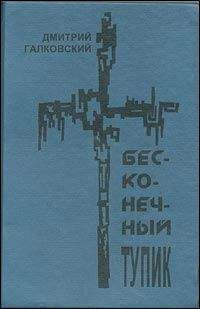Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пираты Эгейского моря и личность."
Описание и краткое содержание "Пираты Эгейского моря и личность." читать бесплатно онлайн.
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
В репродукции в общем-то так и происходит: относительно любой ее составляющей мы в принципе может указать кибернетика и соответствующие механизмы. Даже там, где многовековая стабильность стирает имена кибернетиков из памяти людей, мы все равно интуитивно уверены в их наличии (кто придумал колесо?), и корни такой уверенности как раз и питают олимпы - резервации великих кибернетиков прошлого. Но все крайне усложняется, как только мы, оставляя закон развития, без которого нам сложно жить на свете, пытаемся в то же время освободиться от фигуры кибернетика, творца этого закона, пытаемся заменить разумного и мыслящего кибернетика действием безличных сил. В теории эволюции, например, эта определяющая фигура разорвана на две противостоящие и автономные силы: на индивидуальную изменчивость и условия среды. Индивидуальная изменчивость (мутационная активность) создает выбор, то есть порождает разнообразие установок нулей регулирования, а условия среды снимают выбор, автоматически отдавая предпочтение тем установкам, которые для растений или животных данного вида «оптимальны». Слепо и независимо друг от друга эти силы сообща выполняют труд кибернетика по определению, выбор наилучшего.
Наши земные кибернетики освоили эту оппозиционную схему «разорванного кибернетика», она реализована в так называемых «самообучающихся автоматах». Здесь кибернетик задает нули регулирования не жестко и однозначно, а в некотором диапазоне значений, в спектре, то есть вводит ограниченную неопределенность, в рамках которой должны, по его убеждению, располагаться оптимальные нули регулирования. Делается это в надежде на то, что оптимальность будет поймана в вилку, и если такой системе заданы критерии выбора на оптимальность, а в репродукции они всегда лежат в пределах, а не за пределами достаточной узкой полосы отклонений-допусков, то такой автомат в бесконечной серии повторов будет сужать вилку, сам установит нули регулирования, выберет производно от свойств объекта регулирования и утвердит из некоторого множества возможных программ, предзаданных кибернетиком в экстремумах диапазона-спектра, наилучшую программу.
Кибернетики очень гордятся этим своим успехом, хотя гордиться в общем-то нечем. Самообучающийся автомат стоит к обыкновенному примерно в той же позиции, в какой машина, построенная с двадцатикратным запасом прочности, стоит к идентичной по функции машине, построенной с минимальным запасом прочности. Диапазонспектр возможных значений оптимальных нулей регулирования появляется не от хорошей жизни, а от того, что кибернетик не знает оптимальных нулевых значений, то есть здесь перед нами такой же налог на незнание, как и «запас прочности» в инженерном деле. Это примерно тот же ход мысли, который заставил бы сомневающегося навесить на телегу десяток колес в надежде, что в зависимости от свойств дороги правда себя покажет, телега «сама выберет» оптимальный способ передвижения. Существенным недостатком такой кибернетической «хитрости разума» является то, что в случае с телегой лишние колеса по данным наблюдения можно снять как бесполезные украшения, тогда как изъять из самообучающегося автомата информационный избыток, определить, что в нем работает, а что висит десятым колесом, - вещь практически невозможная. Так что гордиться «самообучающимися автоматами» как какой-то новой ступенью в развитии кибернетики вряд ли имеет смысл, и тем самым более не имеет смысла возводить собственную слабость, невозможность отличить в самообучающемся автомате «работающие» колеса от пятых и десятых, в некую мистическую сущность, в непознаваемую «индивидуальность» автомата, на которую кибернетики возлагают так много надежд. Ожидать от такого «индивида» разумных рассуждений и действий столь же противоестественно и бесперспективно, как и требовать от автомата по продаже газированной воды песен про камыш и задушевного разговора «за жизнь».
Оппозиционная схема «разорванного кибернетика», в которой часть функций определения к наилучшему передана среде, а часть - «мутационная активность» - оставлена субъекту, явственно прослеживается в структуре обновляющих механизмов современного общества, где субъекты творчества и его ценители постоянно образуют оппозиции, но об этом чуть позже. А пока мы хотели бы лишь отметить, что осознание человеком собственной ответственности за все происходящее, его растущее убеждение в том, что ни бог, ни царь и ни герой, а равно и ни кибернетическая машина, ни коллективный разум, ни даже суд истории нс дадут ему избавления, - все это идет не столько от человеческой гордыни, сколько под давлением прозаической необходимости. И традиционные и новые авторитетные инстанции в общем-то доказали гомеостазисный свой характер, доказали ограниченную стабильными условиями сферу их применимости. Исключение составляет, пожалуй, тот действительно удивительный эффект, когда мы видим и знаем в прошлом лишь деятелей обновления, нестабильности, а деятелей стабильности-гомеостазиса знаем только по связи с этими великими для нас именами: Николая 1-го - по Пушкину и декабристам, Понтия Пилата - по Иисусу, Менона-доносчика - по Фидию.
Это исключение заслуживает внимания хотя бы уже потому, что слишком уж бьет в хлаза разница между нашими оценками на истинность и справедливость и оценками современников. Человек, написавший клеветнический донос на Фидия и ставший причиной его смерти, был, по нашим меркам, безусловным негодяем. Но как-то совсем не похоже, что он казался негодяем самим афинянам, большинству из них. Плутарх, во всяком случае, так описывает события после смерти Фидия: «Доносчику Менону народ (то есть народное собрание. - М.П.), по предложению Гликона, даровал свободу от всех повинностей и приказал стратегам заботиться о его безопасности» (Перикл, XXI). В наших нормах Менон, так сказать, стал персональным пенсионером, да и по нормам эллинским произошло то же самое: ему были оказаны те же почести, что и олимпионику - победителю в олимпийских играх, то есть грязное и гнусные, с нашей точки зрения, дело афинский народ расценил по каким-то совершенно непонятньм нам меркам.
Такую же странность мы обнаруживаем и в других суждениях современников по поводу происходящих у них на глазах событий. Не было в истории ни одного великого дела, которое не обнаружило бы в глазах современников своей теневой стороны. Перикл застраивает Акрополь, на тысячи лет определяя архитектурные вкусы и каноны Европы, а в народном собрании ему приходится выслушивать обвинения в использовании казны не по назначению, упреки в архитектурных излишествах: «Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой тирании, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов» {Плутарх. Перикл, XII). Фемистокл, построив корабли, заложил основы военного, политического и экономического расцвета Афин, это не помешало Платону скорбеть о том, что Фемистокл, Кимон и Перикл «наполнили город портиками, деньгами и всевозможными пустяками» (Горгий, 526 В), и особенно неодобрительно отзываться о деятельности Фемистокла, ругать его зато, что он «сделал афинян из стойких гоплитов безалаберной матросней, унизил афинский народ до банки и весла» (Законы, 706 В).
Эти и множество других случаев из любых срезов истории во всяком случае свидетельствуют о том, что суд истории и суд современников - вещи разные, редко совпадающие. Нет пророка в своем отечестве, не судите, да не судимы будете, - первое, что может прийти в голову по этому случаю. Но ведь возможен и другой вариант. А что, если само понятие ценности имеет исторический смысл, если и события и произведения рождаются на свет без «врожденной ценности», вообще не допускают оценки современниками, то есть в аксиологическом смысле являются «tabula rasa», на которой времени еще предстоит начертать их «истинную» и «справедливую» ценность? Ведь что-то незаметно у древних греков, например, чувства строителей истории, работы на историю. Не ради истории Перикл строит свои архитектурные пирамиды, а ради того, чтобы занять народ, «чтобы остающееся в городе население имело право пользоваться общественными суммами нисколько не меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах» (Плутарх. Перикл, XII). Не ради истории и Архимед оглашал улицы криком «Эврика!». Все шло на своем уровне повседневности, и оценку получало значительно позже, отнюдь не из уст современников. Здесь, нам кажется, «брезжит свет», и именно сюда мы двинемся в поисках ответа на вопрос, на что и на кого может рассчитывать человек, который понял бессилие богов, царей и героев определять его судьбу, но не видит пока, каким способом и в каком смысле он мог бы сам стать хозяином своей судьбы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пираты Эгейского моря и личность."
Книги похожие на "Пираты Эгейского моря и личность." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность."
Отзывы читателей о книге "Пираты Эгейского моря и личность.", комментарии и мнения людей о произведении.