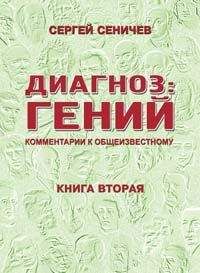Вадим Михайлин - Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла"
Описание и краткое содержание "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла" читать бесплатно онлайн.
Единственный персонаж, для которого шутка Персуордена и впрямь обернулась трагически, — Наруз. Трагедия по старинке, эпически мыслящего человека, имевшего несчастье сохраниться в лироэпическую «цивилизованную» эпоху, в том, что он привык думать о человеке как о существе коллективном, продолжает считать единичного индивида, в том числе и себя самого, ничего не значащей частью общего целого, чья смерть не имеет веса в том случае, если речь идет о ДА и НЕТ. «Зеркальное» сознание в не меньшей степени ориентировано на социальную норму, чем «подводное», просто здесь эпос, широко декларировавший напоказ личность со всеми ее потугами на лирику, не видит необходимости жертвовать существованием «единичного сознания» ради внешнего выражения приверженности догме — достаточно того, что эпос прочно держит реальные рычаги управления за зеркальной пленкой личной свободы. Первая попытка лирики «распространиться в массах» именно и оборачивается чаще всего, со столь любезной историческому материализму предопределенностью, просто лучшей приспосабливаемостью эпоса в изменившихся условиях. Наруз же, последний рыцарь «честного» эпоса в «Квартете», не то что не желает, но не может, не умеет маскироваться. И потому, придя в столкновение с системой, из которого Нессим вышел, ничего, в сущности, не потеряв, но просто «отдав долг вежливости» более сильному противнику, гибнет так же скоро, как обнаруживает себя. Он обречен — если бы Мемлик не ввязался в дело, его рано или поздно убрал бы собственный брат или Жюстин при молчаливом согласии Нессима. Мемлик, связанный с таротной Смертью, вместо косы гротескно вооружен мухобойкой. И умирающий Наруз дышит в последние свои минуты, издавая тонкий пронзительный звук — «жужжание мухи, попавшей где-то далеко в паучью сеть». Но снижающая деталь дает здесь противоположный эффект, усиливая пафос одинокого героического сопротивления всеобщей бездуховности нового эпоса со стороны этого не пожелавшего принимать участие во всеобщих тараканьих бегах отнюдь не самого симпатичного персонажа «Квартета».
Наруз остается единственным истинным паладином и в том, что касается кодекса рыцарской любви. Нет ничего странного в том, что именно Наруз вместе с Маунтоливом открывают и закрывают повествование в целом. Нессим лишь дублирует сюжет Маунтолива, Наруз же его оттеняет. Он гребец и охотник, в то время как Маунтолив — всего лишь зритель, пассивный, любопытный и праздный. Он любит и умирает, в то время как Маунтолив подсчитывает проигрыш. Наруз умирает в буквальном смысле слова с именем Клеа на устах, и поражение его героично и в романтическом смысле слова. Да, воздушная, почти бесплотная в первых трех романах «Квартета» Клеа для Наруза и в самом деле часть его души. Он хочет видеть ее перед смертью, но Бальтазар, «дух места», прекрасно понимает, что Нарузу нужна не женщина во плоти и крови, а всего лишь некий коррелят нетленному образу, почти иконе, — там, внутри. Клеа, таротная Звезда, голубоглазая для голубоглазого Наруза, — единственное, что связывает темного этого принца с миром света, — не дает ему сразу уйти на родину свою, на дно, в хтоническое подводное царство. Но вот Наруз умирает, глаза его темнеют, становятся черными от боли, и за Клеа он цепляется в последней надежде сохранить хоть какую-то связь со здешним, знакомым ему горним миром, в который Нессиму доступ закрыт, поскольку врат увидать он просто не в состоянии. Но бич, коварная змея, притворившаяся другом и оружием в руке бойца, уже опутал его, обвившись кольцами, и тянет вниз. И Бальтазар, мудрая голова, обрубает последнюю соломинку, последнюю ниточку вверх, а под конец еще и кладет змею в гроб Нарузу под голову. Помните последнюю фразу романа? У Даррелла лишних последних фраз не бывает. Наруз слишком могуч, чтобы уйти просто так. Клеа не пожелала, не смогла протянуть ему перед смертью руку, ну что ж, он сам из хтонических подводных глубин, из снов ее и Города протянет за нею руку — черный уже, Дьявол уже, темноглазый и с раздвоенной губой. Духовный образ сформирован, он — собственность Наруза, а не Клеа, и Клеа, новой, повзрослевшей, придется-таки расплачиваться за… впрочем, зачем я буду пересказывать сюжеты «Клеа». Всему свое время.
Пара следов напоследок
Естественно, текст куда богаче. Помимо всего прочего, он насквозь литературен, аллюзивен до крайности. Спектр — от предромантической литературы конца XVIII века и сюжетики «арабских ночей» до изысков рубежа веков, экзотикой баловавшегося не меньше, а может, даже и больше, чем романтики. В общем — весь, как и было обещано, XIX век. Литературные пародии на романтиков «второго ряда» типа Джорджа Дарли — только верхушка айсберга, хотя и она богата смыслами в контексте первых двух романов. Есть — явно — Байрон, «Восточные поэмы». В «Гяуре», если помните, молодой гяур, то бишь европеец, иноверец, соблазняет некую Лейлу, молодую жену старого, или не очень старого, Гассана. Лейлу бросают в море, где она, зашитая в мешок (ну чем не идеал чадры?), тихо тонет, совсем как Лейла Хознани в безумии своем, раздавленная злою шуткой Города. Гассан же гибнет от руки гяура — но ведь и Наруз считает Маунтолива прямым виновником смерти отца. Кроме того, и в прихотливой фрагментарной композиции «Гяура» есть любопытные совпадения с техникой Даррелла. «Корсар» и «Лара» — еще два лыка в строку. В «Ларе» — та самая подруга мужчины, за голову которого обещана награда, да и в «Корсаре» есть на что взглянуть. Достанет и того, что Нессим в какой-то момент именно корсаром видится Жюстин. Байрон — некий архетип английского романтизма, мог ли Даррелл пройти мимо?
Стоит обратить внимание и на упоминаемые в тексте — эдак походя — имена и названия. Персуордену, попавшему на праздник в пустыне, при виде всей тамошней избыточной во всех смыслах слова пышности приходит на память «Ватек» Уильяма Бекфорда. И дело, очевидно, не просто в пышности стиля и восточной готической экзотике этого текста. Сюжет о матери-колдунье, толкающей сына-халифа на всяческие авантюры, и о любовнице, готовой идти за повелителем своим хоть в ад, — ничего не напоминает? Ведь идею о Лейле как «движущей силе» заговора исподволь внушил Маунтоливу именно Персуорден. А если вспомнить, чем кончается «Ватек», да сравнить с финалом сюжета Нессим — Жюстин в «Клеа» — то-то будет интересно.
Бертон, сэр Ричард Френсис Бертон, тоже является ненавязчивым призраком — не просто так. Другую подобную фигуру, столь логичную в контексте «Маунтолива», придумать трудно. Вот разве что Лоренс Аравийский придет еще на ум. Путешественник, объехавший весь мир и ставший для викторианской Англии неким символом бесстрашного белого исследователя, рыцаря, естественно, без страха и упрека. Дипломат, бывший консулом не где-нибудь, а в Дамаске. Автор первого полного перевода «Тысячи и одной ночи» на английский язык, заслужившего, как говорят, восторженные отклики арабских ученых. Литератор — с густым, псевдоелизаветинским барочным стилем. Авантюрист — первый европеец, проникший в Мекку, и прочая, прочая, прочая.
И прочая, прочая, прочая.
Закончу одним невиннейшим по сути своей вопросом — к чему бы такая эрудированность в тексте, следующем старательно (начать хотя бы со стиля — прочитайте еще раз первую фразу) канонам классического романа воспитания образца XIX века?
P. S. Шестнадцать в Таро — цифра Падающей Башни.
Четвертый ключ от Александрии
Девочка ныряет в море, где под водой лежит, мерцая, шар — оранжевый, танжериновый, золотой. Вода холодная, и воздух еще не согрелся до летнего послеполуденного зноя, но если девочка не любит танцевать и плавать, из нее никогда не выйдет настоящей женщины. Эта девочка мелькнет эпизодической водевильной травести в начальной сцене «Клеа», чтобы затем уйти на дальний план и слиться с фоном веером разложенных для гранпасьянса карт, ведь не случайно Дарли именно на картах ворожит и объясняет ей ее дальнейшую — сказочную — судьбу.
Потом появится другая девочка, слепая, для которой зрячий брат, в далеком будущем художник и самоубийца Персуорден, сочинит великолепный дворец с чернокожими слугами, колоннами и карлами по углам. Тот самый — два с хвостиком фута от земли — сказочный дворец, который получит в подарок от судьбы, от Города первая девочка. Затем появится еще один дворец, подводный, с карлами и с колоннами, как полагается, и темный принц, колдун с раздвоенной губой, хтонический кощей — хранитель кладов расставит у дверей своих молчаливых соглядатаев. У девочек разные имена — Жюстин, Лайза, Клеа. Но дворец — один на всех, как ни изменчивы пути и перспективы: пустыня, видите ли, миражи. И один на всех поток судьбы, вот только разные токи: всякой сестре — свои серьги. Лайзу, едва она замочит в море платье, выудит из воды темный сухопутный принц. Кто не рискует, тот не пьет шампанского — и не кричит надсадным петушком из-под бильярда. Клеа пройдет свой путь до конца и тихо закроет дверь дворца за спиной. А Жюстин — Жюстин еще маленькая, но ведь недаром ей дали такое имя и такую мачеху в придачу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла"
Книги похожие на "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Михайлин - Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла"
Отзывы читателей о книге "Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла", комментарии и мнения людей о произведении.