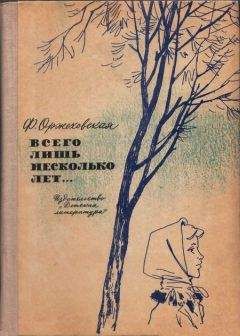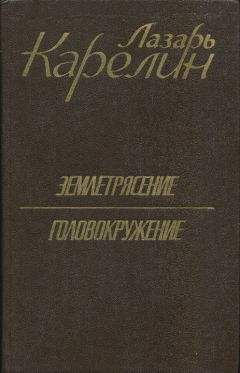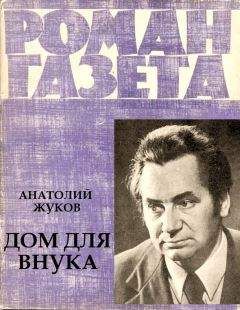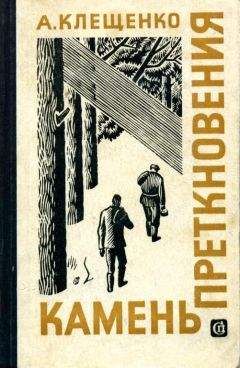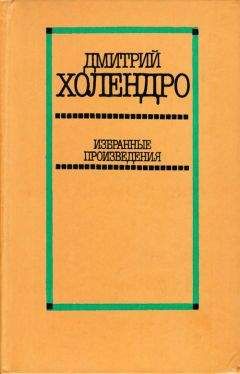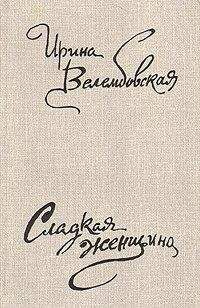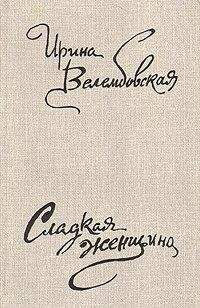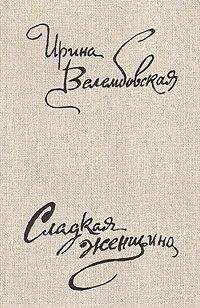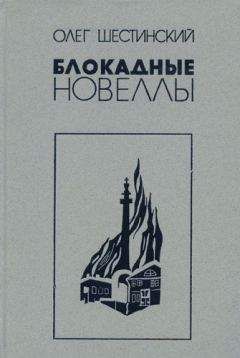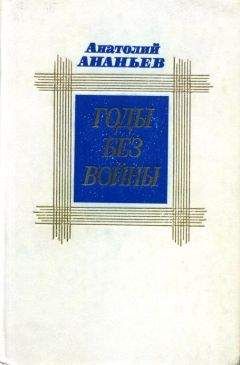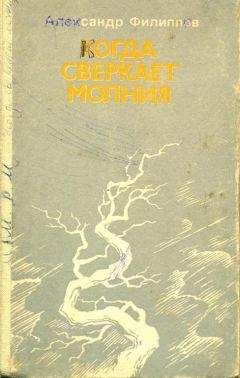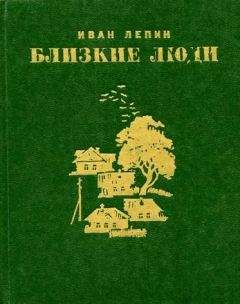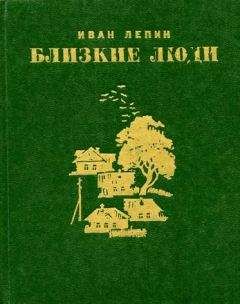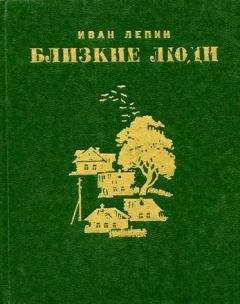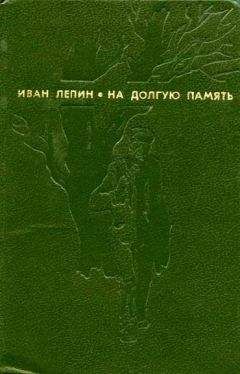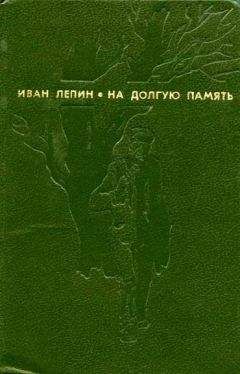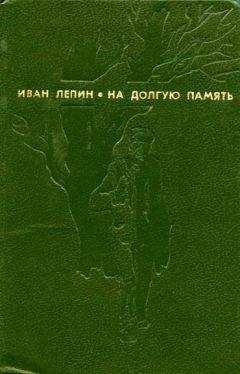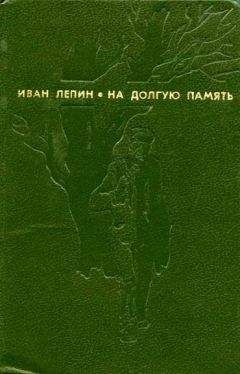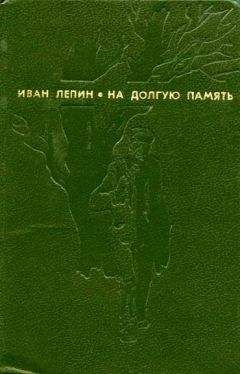Анатолий Ананьев - Версты любви
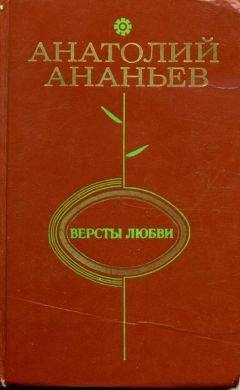
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Версты любви"
Описание и краткое содержание "Версты любви" читать бесплатно онлайн.
В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух героев — двух наших современников. Судьбы эти сложные, во многом нелегкие, порой драматичные.
Автор затрагивает нравственные и социальные проблемы нашего времени. Герои романа думают о добре и зле, о месте человека в жизни.
Издание третье.
Еще вчера я ведь если и вспоминал, то лишь о том, что не рождало ни глубоких раздумий, ни огорчений; ну что — Долгушинские взгорья, что — хранящийся до сих пор у меня дома грубый брезентовый плащ с капюшоном, в котором когда-то в любую погоду — в дождь, ветер, в мокрый снег — ходил по колхозным полям и который, кстати говоря, жена уже не раз намеревалась выкинуть на свалку как ненужный, загромождающий квартиру хлам, что — этот плащ и что — тоска по взгорьям, когда годы не отмечены совершенно иными, и не только для приятных воспоминаний событиями. Что-то же заставило меня покинуть Долгушинское отделение и уехать в город? Не для того же только, чтобы потом, спустя много лет, можно было с грустью в голосе произнести и самому себе, и при случае какому-нибудь приветливому собеседнику: «Да-а, самые счастливые годы... молодость... задор... энергия... черная вспаханная земля, да-а...» — нет, разумеется, не потому я очутился в городе и вот теперь, как вечный командированный, что ни месяц, то в инспекторской поездке, а была причина, которую я просто не ворошил в себе, оберегая покой, но прошлое вот сейчас, как устремляется река в проран, размывая перемычку, — кипящею сменою картин хлынуло прошлое из тайников сознания. «Водораздел человеческих душ, — про себя повторял я слова, принадлежавшие даже не Евгению Ивановичу (но мне было все равно, кому они принадлежали; произнес их он, и потому я отвечал теперь мысленно ему). — Нет такого водораздела для честных людей. Он существует лишь для карьеристов, дельцов, которым действительно в какие-то времена истории приходится выбирать, за что уцепиться, по какой линии пойти, государственной, добиваться чинов или намывать легкодоступное золотишко, пусть хрустящими рубликами на толкучках и рынках, и совершенно не важно, по какую сторону водораздела окажется такой человек, он одинаково вреден, он — зло, и страшнее еще, когда зло это в чинах. А Василий Александрович — что? Он мучается, переживает, у него еще есть совесть», — продолжал я. И все то, как и что думал я о доме, о Валюше, Ларочке, Наташе, о Петре Семеновиче, у которого сын и который так же, как и я, по второму разу идет по школьной программе, ломая голову над самыми простыми арифметическими задачами, — все это, еще вчера вызывавшее умиление: «Как хорошо, что есть семья, должность, что живу в самом лучшем, самом зеленом районе города и что — достиг же, в конце концов, чего-то в жизни, хотя бы этой вот квартиры и права дремать по вечерам в кресле с газетою в руках или перед телевизором!» — представлялось не чем иным, как мелким, жалким, замкнутым в самом себе существованием, тогда как и в семье, и на работе (мы только закрываем на все глаза, потому что так легче) имеются огромные, действительно-таки затрагивающие коренные вопросы жизни проблемы. И они сейчас поднимаются как бы из глубины — в противовес рассказанному Евгением Ивановичем и как бы в противовес собственным, еще недавно казавшимся правильным взглядам.
С усмешкою, которую не нужно было скрывать на лице, я говорил себе: «Хорош же я был вчера со своим советом: воспоминания — лучшее средство от бессонницы. Это смотря какие воспоминания. Вот попробуй сейчас засни». Вчера, конечно, я не сказал этого Евгению Ивановичу, только с сожалением подумал, что надо дать такой совет, но мне представлялось, что сказал, и оттого-то я и насмехался теперь над собою.
Тяжелые, до пола, гардины как будто плотно прикрывали и окно, и узкую балконную дверь, но все же свет от горевших на площади фонарей проникал в номер, ложась на стены и потолок блекнущими, расплывающимися желтыми полосками, и оттого темнота не казалась густой, как в первое мгновенье, когда была выключена люстра; я давно уже хорошо различал не только кровать, но и лежавшего на ней Евгения Ивановича, его седую голову на подушке, повернутую лицом к стене; думаю все же, что он спал, так как до самого рассвета, пока не забрезжило за окном синевою утро и пока сам я, утомленный, взволнованный, не забылся наконец коротким и беспокойным предзоревым сном, ни разу не пошевелился, а я рассказывал ему, разумеется мысленно, о своей прожитой жизни.
ЧАС ПЕРВЫЙ
— Вы говорили о случайностях, — начал я, вспомнив самые первые слова, какие произнес Евгений Иванович, когда мы, вернувшись из ресторана, уселись друг против друга в мягких и глубоких гостиничных креслах. — Пожалуй, и так можно представить жизнь, как цепь случайностей, если взглянуть поверхностно. Почему, например, я, городской житель, поступил в сельскохозяйственный техникум? Случайность? Да, если, разумеется, считать случайностью войну, которая грянула в сорок первом, когда я учился еще только в пятом классе, братишка мой — во втором, а сестренка лишь с завистью смотрела на наши новенькие портфельчики, вздыхая по-взрослому, как это умеют только с нетерпением ожидающие своего счастливого часа дети, и если, разумеется, считать случайностью, что эта самая война позвала отца на фронт, а в доме потребовался скорый и надежный помощник для матери, и она однажды сказала: «Закончишь седьмой, подавай в техникум. Отца нет, и тебе надо становиться на ноги». Да, вся жизнь могла бы пойти по-другому; жизнь сотен тысяч людей могла бы пойти по-другому, если бы не война, которая, как звено к звену в долгой цепи, событие за событием властно, не считаясь ни с чьим личным желанием, выкладывала свое русло для каждого человека. Но можно и так сказать: почему в сельскохозяйственный? Были же и другие. Может быть, тут-то и кроется случайность? Нет. Ни тогда, ни теперь тем более, я не думаю так; уже само слово «сельскохозяйственный» напоминало деревню и как бы само собою приближало к земле, хлебу; именно к хлебу, потому что — какие еще мысли могли прийти в голову, когда ценнее всех ценностей были в доме продуктовые карточки и когда перспектива жизни (да был ли я исключением!) виделась не в той широте и возможностях будущей работы, как теперь, а чтобы лишь — хоть как-то обеспечить своим трудом в доме достаток. И достатком этим виделся хлеб. Деревня и хлеб — так представлял я свое будущее; хлеб для себя, для братишки, сестры, матери, для всех, для общего блага, и не жалею, что именно с этим представлением о жизни когда-то начинал входить и познавать ее.
Мой отец тоже не вернулся с войны; был и в нашей семье черный день, когда почтальон вручил утром матери похоронную, и я тоже, наверное, повзрослел в тот день, но зачем пересказывать сейчас подробности; они одинаковы у всех; скажу лишь, что было и для меня такое время, когда хоть плачь, а бросай учебу и иди в грузчики, но каким-то образом мать все же не допустила до этого и потому, наверное, особенно радовалась, когда я принес домой диплом агронома и направление на работу.
«Наконец-то», — сказала она.
«Я заберу вас с собой в деревню».
«Конечно, сынок, только сперва поезжай один, поработай, поживи, осмотрись».
«Но почему же?»
«Нет-нет, ты поживи, осмотрись, а тогда уж...»
«Я непременно приеду за вами. Сразу же, как только устроюсь. Или вы сами, я напишу и пришлю денег», — настаивал я.
Теплым августовским утром я выехал к месту назначения, в Красно-До́линский район, с полным ощущением того, что уже — взрослый, кормилец семьи, заменивший отца, и самые счастливые планы, какие только могут возникать в голове девятнадцатилетнего юноши, возбуждали воображение. Пока ехал в поезде, я то и дело подходил к окну и радовался всему, на что смотрел: на желтеющий ли разлив пшеницы, что открывался вдруг, сразу за обрывавшейся березовой рощей, и хотя я еще никогда не видел тех мест, Долгушинских взгорий, где предстояло работать, но ни секунды не сомневался, что и там, в будущем моем пристанище, вот таким же разливом взбегают и скатываются по пологим склонам от речушки к речушке, от леска к леску, от укрывшейся за огородами и плетнями деревеньки к другой, звенящие колосом хлеба — звенящие тем колосом, что в техникуме, на стендах, в снопах; я знал — то была отборная пшеница, что на полях она не может расти вся такой, но я улетал мечтою вперед и потому представлял в воображении только лучшее; радовали стада на лугах, и пастух, волочивший за собою по траве длинный веревочный кнут, и уже успевшие осесть и поблекнуть на солнце сметанные стога снега, и мгновенно как бы промелькнувший вдруг переезд с ожидающими у шлагбаума деревенскими телегами и колхозными полуторками, которые, впрочем, давно уже отпилили по дорогам свое и теперь разве только как железный хлам встретятся еще где-нибудь на отдаленной автобазе у нерадивого хозяина, да хранятся, наверное, как экспонаты для истории в заводских музеях, словом, и эти, теперь давно отжившие, полуторки, и красные кирпичные здания станций и полустанков, и даже торговые прилавки под навесами, куда сейчас же устремлялся весь вагонный народ, как только останавливался состав, — все радовало глаз. И когда ехал, именно на полуторке, от железнодорожной станции до Красной До́линки, то же настроение владело мною, и я так же, устроившись в кузове, смотрел по сторонам и вперед, подставляя лицо жаркому августовскому дорожному ветру, и с восторгом рано начинающего самостоятельную жизнь молодого человека оглядывал словно дремавшие в полуденном зное под соломенными крышами деревянные крестьянские избы, когда машина, подпрыгивая на ухабах, проезжала через очередное по дороге село; но на меня не веяло тогда запустением от тех поосевших за войну изб; это ведь теперь, когда знаю нынешнюю деревню и могу сравнивать, запоздалая грусть начинает тревожить сердце, и за каждым окном, за каждой бревенчатой стеною как бы чувствую притаившееся вдовье горе, а тогда — не было и намека на эту грусть; я хорошо помню, как выпрыгнул из кузова с легким чемоданчиком, едва шофер затормозил машину, и потом, стоя посреди пыльной площади, с удовлетворением разглядывал деревянные и кирпичные строения районного центра: здание райкома, исполкома, районного земельного отдела, которое — я сразу догадался, что это оно, по привязанным у крыльца к столбу оседланным коням — особенно привлекло внимание. Одноэтажное, длинное, как барак, с обшарпанной дверью и каким-то плакатом по карнизу на полинялом полотнище (точно не помню: что-то связанное с уборкой и планом), с фундаментом, заметно изъеденным солонцом (но ведь это только теперь я так подробно вижу все и всему придаю значение!), здание не представлялось ни обветшалым, ни мрачным; оно было не лучше, но и не хуже других, соседних, что редкою и как бы неровною толпою обступали пыльную площадь (да ведь и восприятие тогда, в послевоенные годы, было у нас другим: бились за главное, здесь, в районах, за хлеб, а до чего-то не доходили руки, и это разумелось само собой), и что бы я ни говорил теперь, но тогда я ласкал взглядом этот дом, который должен был стать для меня судьбой, жизнью. Я знал, что здесь, у этого крыльца, начнется моя большая дорога, и, продолжая еще стоять на площади, торопил время, мысленно забегая вперед, к тем годам, когда и работа, и жизнь — все войдет в одну привычную, спокойную, с уверенностью в завтрашний день колею. Я посмеялся бы над любым, кто осмелился бы сказать мне в те минуты, что я не знаю жизни, что планы мои возведены на песке и что ни следа не останется от них, как только прокатится по ним остужающая волна недоверия; я ответил бы, улыбнувшись, что эта мрачная шутка не для меня, но, к сожалению, теперь вынужден признать, что есть эта остужающая волна, что она окатила меня, хлестнула, да так, что и теперь иногда с боязнью оглядываюсь на прошлое. Но хлестнула не сразу; лишь спустя несколько месяцев я ощутил первое ее студеное дыхание. У вас в девятнадцать был поединок с немецкими самоходками, в то время как у меня тоже был, в сущности, поединок, схватка, но только иного рода, с иным врагом, да, я не боюсь этого слова, врагом, а точнее, злом, и если уж начистоту — он еще не закончен, этот поединок, по крайней мере, в моей душе; время лишь приглушило все и затянуло мнимой сетью спокойствия и смирения, но именно мнимой, потому что чувствую же я вот сейчас снова и ту прежнюю решимость, и злость, и свою правоту. Но, позвольте, как и вы мне, я тоже буду рассказывать все по порядку, как было, как ошибался я в людях, полагая, что, как и во мне самом, в каждом человеке живут лишь добро, справедливость, понимание и уважение к ближнему; тогда, на площади, мне нравилось все, на что ни переводил я взгляд, и даже само название села — Красная До́линка, — когда мысленно произносил его, рождало возвышенное, гордое чувство. «Красная», — повторял я, вкладывая свой смысл в это слово, хотя именовалась До́линка Красной давно, еще до революции, а иногда называли это село еще Ярмарочным за шумные зимние ярмарки с каруселями, балаганами и катаниями, какие устраивались здесь, как раз на этой площади, и со всей округи съезжались сюда купцы, лоточники, цыгане, съезжались мужики из деревень, и в кабачном ряду с утра и до самой поздней ночи бушевала пьяная, горланившая песни толпа, дворы были забиты подводами, снег у завалинок устилался подсолнечной шелухою, а в заезжих избах так и не убирались со столов медные ведерные самовары. Так рассказывали потом, так оно, очевидно, и было, но во мне даже и после этих рассказов, помню, название Красная До́линка каждый раз вызывало все то же чувство, какое испытал я, ступив впервые в тот жаркий августовский день на эту пыльную площадь. Я медленно пересек ее, когда полуторка скрылась за поворотом, и потом еще с минуту стоял у крыльца, разглядывая и читая поблекшую зеленую вывеску с надписью «райзо»; из дверей, шумно разговаривая и не замечая меня, вышли трое мужчин, очевидно, председатели колхозов, и я, обернувшись, смотрел, как они отвязывали коней и садились в седла; и в этих председателях с обветренными и потными шеями, в их сытых конях с лоснящимися крупами, что уже взбивали копытами уличную пыль, еще более представлялась мне спокойная и радостная впереди трудовая жизнь, и с этой счастливой мыслью, не скрывая довольства на лице, я вошел в узкий и сумрачный коридор.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Версты любви"
Книги похожие на "Версты любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Ананьев - Версты любви"
Отзывы читателей о книге "Версты любви", комментарии и мнения людей о произведении.