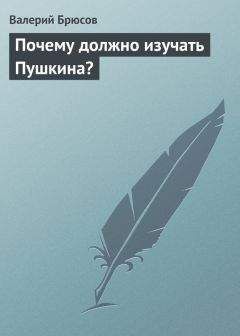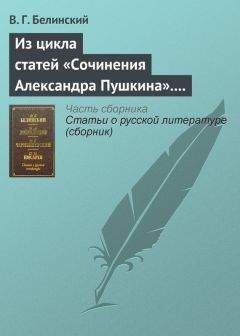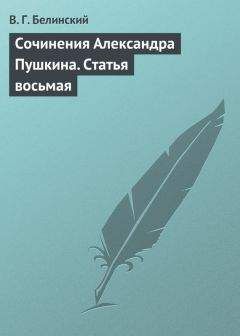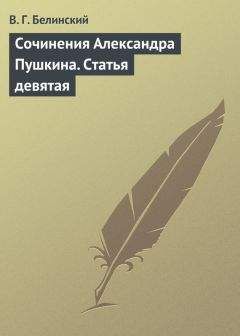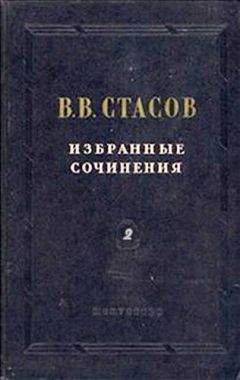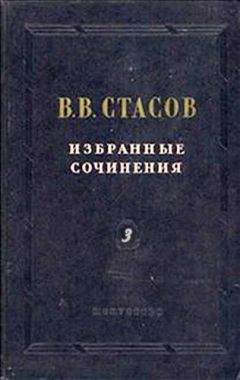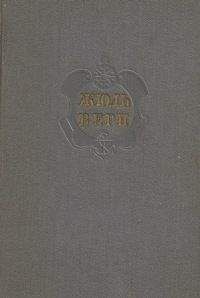Владимир Набоков - Комментарий к роману "Евгений Онегин"

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Описание и краткое содержание "Комментарий к роману "Евгений Онегин"" читать бесплатно онлайн.
Это первая публикация русского перевода знаменитого «Комментария» В В Набокова к пушкинскому роману. Издание на английском языке увидело свет еще в 1964 г. и с тех пор неоднократно переиздавалось.
Набоков выступает здесь как филолог и литературовед, человек огромной эрудиции, великолепный знаток быта и культуры пушкинской эпохи. Набоков-комментатор полон неожиданностей: он то язвительно-насмешлив, то восторженно-эмоционален, то рассудителен и предельно точен.
В качестве приложения в книгу включены статьи Набокова «Абрам Ганнибал», «Заметки о просодии» и «Заметки переводчика». В книге представлено факсимильное воспроизведение прижизненного пушкинского издания «Евгения Онегина» (1837) с примечаниями самого поэта.
Издание представляет интерес для специалистов — филологов, литературоведов, переводчиков, преподавателей, а также всех почитателей творчества Пушкина и Набокова.
Когда в гл. 8, XIX Татьяна между прочим осведомляется у Онегина, не из своего ли поместья он приехал в Петербург, его ответ не приводится, но мы легко можем представить себе онегинские слова: «Нет, я прямо из Одессы», и лишь при огромном усилии воображения можно услышать другой ответ: «Я, видите ли, был за границей: проехал Западную Европу от Марселя до Любека — enfin, je viens de débarquer»[823]. Я бы предположил, не углубляясь в эту проблему далее, что перемещение с палубы в бальную залу не следует воспринимать географически буквально, но относиться к нему как к литературной метафоре, почерпнутой из сюжета «Горя от ума», где «корабль» в той или иной мере также употребляется в переносном значении.
См. мой комментарий к «Путешествию Онегина», где я привожу все варианты текста, включая отвергнутые.
Здесь мы сталкиваемся с еще одной небольшой сложностью: с логической точки зрения, события и настроения, описываемые в двадцати одной строке (с XII, 8 до конца XIII), излагаются последовательно, а значит теперь, в 1824 г., Онегину должно быть двадцать девять лет; однако, с точки зрения стилистической, может возникнуть искушение воспринять всю строфу XIII как иллюстрацию и развитие соображений, высказанных в конце предшествующей строфы (XII, 10–14), и тогда в 1824 г. Онегину должно быть двадцать шесть лет, — в этом случае всю тринадцатую строфу надо воспринимать в плюсквамперфекте (глагольном времени, которого нет в русском языке) — «Им овладело беспокойство и т. д.».
XIV–XV
В этих двух строфах за входом Татьяны с ее мужем князем N («важным генералом» стиха 4) наблюдает зоркая Муза Пушкина, а не апатичный и угрюмый Онегин. Он-то заметит Татьяну лишь в строфе XVI (начиная со стиха 8), когда она уже присоединится к другой светской даме. Тем временем князь N уже подошел к своему родственнику, с которым не виделся несколько лет, — а Татьяне выражает свое почтение испанский посол.
XIV
Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал…
К хозяйке дама приближалась,
4 За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
8 Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней,
12 Она казалась верный снимок
Du comme il faut… (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)
9 Без этих маленьких ужимок… — Фр. sans ces petites mignardises.
«…Все, что обнаруживает в себе явное заимствование, — вульгарно. Оригинальное жеманство иногда может оказаться хорошим тоном; жеманство же подражательное всегда дурно», — писала леди Френсис своему сыну Генри Пелэму в скучном романе Эдварда Булвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (Edward Bulwer-Lytton, «Pelham, or Adwentures of a Gentleman», 3 vols., London, 1828), т. 1, гл. 26, который был хорошо известен Пушкину во французском переводе (но который я не нашел) — «Pelham, ou les Aventures d'un gentilhomme anglais», перевод («вольный») Жана Коэна (4 vols., Paris, 1828).
9—10 …ужимок… подражательных затей… — Хотя следующий прелестный отрывок относится не к русским дамам 1820-х гг., а к английским барышням предшествующего столетия, он дает некоторое представление о том, какими могли быть эти «ужимки и затеи»; вот письмо за подписью Матильды Мохер, написанное Стилем и опубликованное в «Зрителе» (№ 492, 24 сентября 1712 г.):
«У Гликеры танцующая походка и, даже передвигаясь обычным шагом, она сохраняет музыкальный ритм. Хлоя, ее сестра… обычно в комнату… вбегает. Дульчисса, пользуясь приближением зимы, ввела в употребление очень обаятельную дрожь, сдвигая плечи и ежась при каждом движении… А вот очень хитрая поселянка. Появляясь в обществе, она делает вид, будто только что с прогулки, и по этому случаю успешно изображает, что запыхалась. Мать… называет ее „сорванцом“…»
13 comme il faut; XV, 14 vulgar. — В письме от 30 октября 1833 г. из Болдино жене в Петербург Пушкин писал:
«Я не ревнив <…> но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar».
13 …Шишков… — Упоминается глава группы писателей-архаистов адмирал Александр Шишков (1754–1841), публицист, государственный деятель, президент Академии наук и двоюродный брат моей прабабушки{183}.
Фамилия Шишкова опущена во всех трех изданиях (1832, 1833, 1837), но присутствие ее первой буквы («Ш») в беловой рукописи и замечание Вяземского на полях своего экземпляра романа решают вопрос, ответ на который подсказывает элементарная логика. Бедный Кюхельбекер трогательно заблуждался, когда в своем тюремном дневнике (запись от 21 февраля 1832 г., Свеаборгская крепость) с горечью замечал, что за отточием скрывается его христианское имя (Вильгельм) и что Пушкин подшучивает над его слабостью перемешивать в письмах русский язык с французским. Впрочем, во многих отношениях Кюхельбекер был ближе к архаистам, чем к западникам.
Шуточные упоминания этого поборника славянизмов часто встречаются в первой трети века. Так, Карамзин, дружелюбный оппонент Шишкова, пишет в письме Дмитриеву от 30 июня 1814 г.:
«…ты на меня сердит: ошибаюсь ли? <…> Знаю твою нежность — сказал бы деликатность [фр. délicatesse], да боюсь Шишкова…»{184}
В 1808 г., комментируя собственный перевод двух эссе Лагарпа, Шишков заявил следующее (цитирую по блистательным примечаниям Пекарского к совместному с Гротом изданию писем Карамзина к Дмитриеву, СПб., 1866):
«Когда чудовищная французская революция, поправ все, что основано было на правилах веры, чести и разума, произвела у них новый язык, далеко отличный от языка Фенелонов и Расинов…»{185}
Вероятно, речь идет о Шатобриане, гений и индивидуальность которого ничем, конечно же, не обязаны никакой «революции»; литература, рожденная Французской революцией, на деле оказалась еще более традиционной, бесцветной и банальной, чем стиль Фенелона и Расина; этот феномен сравним лишь с литературными последствиями русской революции, «пролетарские романы» которой в действительности безнадежно буржуазны.
«…Тогда и наша словесность, — продолжает Шишков, — по образу их новой и немецкой, искаженной французскими названиями словесности, стала делаться непохожею на русскии язык»{186}.
Это критика прозы Карамзина 1790-х гг. С целью положить конец столь опасной тенденции Шишков в 1803 г. пишет диссертацию «Рассуждения о старом и новом слоге в русском языке», за которой в 1804-м следует приложение. (У Пушкина было издание 1818 г.) Нападкам Шишкова подвергаются не столько галлицизмы и неологизмы, сколько сама либеральная мысль; в основном он остался в памяти потомков как автор неуклюжих и искусственных русизмов, которыми он пытался заменить современные ему слова, механически усвоенные русскими из западноевропейских источников и служившие для определения немецких отвлеченных понятий и французской словесной мишуры. Борьба между Шишковым и последователями Карамзина представляет исторический интерес[824], однако на развитие языка она не оказала никакого влияния.
25 марта 1811 г. Шишков основал общество «Беседа любителей русского слова». Если позабыть о номинальном членстве в нем двух крупнейших поэтов — Державина и Крылова, можно согласиться с русскими критиками, определявшими деятельность общества как наивное словотворчество престарелых вельмож. Свою заранее обреченную на провал цель общество видело в поддержании «классических» (на самом деле неоклассических и псевдоклассических) форм русского языка и защите их от галлицизмов и прочей заразы. Другая группа более молодых литераторов приняла их вызов, в результате чего последовала довольно вялотекущая «литературная война», не выходящая за пределы тех querelles[825] между anciens и modernes[826], о которых так утомительно читать в исторических обзорах французской литературы.
У русских историков литературы, начиная с середины прошлого века, вошло в традицию приписывать слишком большое значение кружку «Арзамас», который возник в силу следующих обстоятельств.
Беседовец князь Шаховской написал и обнародовал 23 сентября 1815 г. слабую пьесу, содержавшую сатиру на Жуковского («Липецкие воды»; см. мой коммент. к гл. 1, XVIII, 4—10). Будущий известный государственный деятель граф Дмитрий Блудов (1785–1869) встал на защиту своего друга и нанес контрудар, написав еще более бездарный памфлет, скроенный по образцу французских шутливых полемических бесед и озаглавленный «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Арзамас, городок в Нижегородской губернии, считался таким же провинциальным, как Липецк. Он славился своим птицеводством и часто упоминался в газетах, поскольку году в 1810-м художник из народа Александр Ступин (1775–1861), не столь талантливый, сколь энергичный, основал в нем первую в России художественную школу. Этот парадокс (просвещение, исходящее из застойной провинции) вполне был в духе русского юмора. Кроме того, слово «Арзамас» было своего рода неполной анаграммой фамилии Карамзина, главы модернистов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Книги похожие на "Комментарий к роману "Евгений Онегин"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Набоков - Комментарий к роману "Евгений Онегин""
Отзывы читателей о книге "Комментарий к роману "Евгений Онегин"", комментарии и мнения людей о произведении.