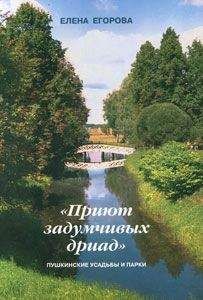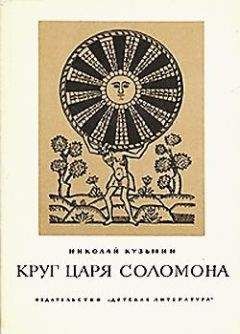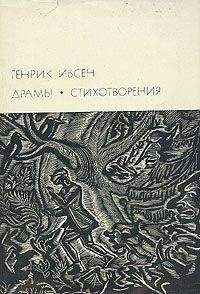Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Творческий путь Пушкина"
Описание и краткое содержание "Творческий путь Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Как ни велика пушкиниана, но до сих пор у нас нет законченного монографического труда, освещающего творческий путь Пушкина на всем его протяжении.
Один из крупнейших наших пушкинистов член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой большую часть своей жизни посвятил разработке этой темы. Его фундаментальное исследование «Творческий путь Пушкина (1813–1826)», вышедшее в свет в 1950 году, заслуженно получило высокую оценку критики и было удостоено Государственной премии.
Настоящий труд, продолжающий сделанное и вместе с тем имеющий вполне самостоятельное значение, охватывает 1826–1830 годы в творчестве Пушкина, годы создания замечательных лирических шедевров, «Арапа Петра Великого», поэм «Полтава» и «Тазит», «Сказки о попе и о работнике его Балде», маленьких трагедий. Обстоятельно анализируя все эти произведения, автор щедро делится богатством своих наблюдений, часто по-новому освещая то или иное создание Пушкина.
Книга Д. Д. Благого заполняет существенный пробел в нашем литературоведении. Яркое и живое изложение делает ее доступной самым широким кругам читателей.
Острое чувство общественного одиночества, которое мучительно ощущает Пушкин, оказавшийся без наиболее близкой ему декабристской среды, объясняет многое в его биографии этого периода. Поэт словно бы нигде не находит себе места: из Москвы едет в Петербург, оттуда в Михайловское, снова в Петербург, опять в Москву. «Вы все время на больших дорогах», — саркастически замечает Пушкину неусыпно следивший за ним своим жандармским оком А. X. Бенкендорф (XIV, 72). «На большой мне, знать, дороге || Умереть господь судил», — горько иронизирует сам Пушкин в стихотворении «Дорожные жалобы». Ксенофонт Полевой, вспоминая в своих «Записках» о проводах многочисленным обществом друзей и знакомых уезжавшего весною 1827 года в Петербург Пушкина, оставил весьма выразительную зарисовку его облика, дающую наглядное представление о душевном состоянии поэта. Провожавшие собрались на подмосковной даче Соболевского, откуда должен был уехать Пушкин. Но его очень долго не было: «Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение), и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказав никому ласкового слова, укатил в темноте ночи».[74]
Острая отчужденность от окружающих, чувство все большего одиночества усугублялись понесенными поэтом утратами. В начале 1827 года умер поэт-романтик Дмитрий Веневитинов, подававший огромные надежды, душа кружка любомудров, проживший лишь «век соловья и розы» (слова о нем Дельвига). «Другой Ленский», «правдивая, поэтическая душа, сломленная в свои двадцать два года грубыми руками русской действительности», Веневитинов, писал о нем Герцен, «не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру…» (VII, 206, 223).
Действительно, смерть Веневитинова последовала словно бы от случайной причины — простуды в сыром климате Петербурга, куда он незадолго до того переехал. Однако в его стихах, написанных в этот период, звучат настойчивые мотивы близкой смерти, неотвратимо надвигающейся гибели («Завещание», «Утешение», «Поэт и друг» и др.). Он начинает и прямо лелеять «коварную мечту» о самоубийстве («Кинжал», «К моему перстню» и др.). Но помимо этого, несомненно, имелась и еще одна, потаенная причина. Отправляясь в Петербург, поэт по просьбе Зинаиды Волконской взял в свой экипаж библиотекаря графа Лаваля, француза Воше, который возвращался из Сибири, куда по просьбе графа провожал его дочь, княгиню Е. И. Трубецкую, одной из первых поехавшую к своему мужу в Нерчинские рудники. Сразу же по приезде в Петербург оба были арестованы; Воше — несомненно в связи с его сибирским путешествием; что касается Веневитинова, за ним, как и за всеми любомудрами, — мы уже знаем — велась секретная слежка. На допросах, проводившихся одним из следователей по делу декабристов, генералом Потаповым, поэт держал себя с исключительной твердостью и достоинством. Так, на самый центральный вопрос о принадлежности к тайным обществам Веневитинов ответил, «что если… и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему». Как видим, это ответ поразительно напоминает данный примерно за год до того (Веневитинов выехал в Петербург в конце октября 1827 года) ответ Пушкина царю на вопрос, где он был бы 14 декабря. За отсутствием прямых улик поэт через три дня был отпущен, но близкие считали, что именно то, что произошло с ним при приезде в Петербург, подорвало его организм. «Простудился ли Дмитрий Владимирович, — писал впоследствии его племянник, — в том помещении, где был арестован, или, — многозначительно добавляет он, — подвергся какому-нибудь другому вредному влиянию, — об этом не сохранилось точных семейных преданий, которые ограничиваются указанием на гигиенические условия места заключения как на главную причину окончательного расстройства в здоровье моего дяди». Осторожный намек на возможность «какого-нибудь другого вредного влияния», несомненно, весьма красноречив. В таких же, хотя и неопределенных, но многозначительных выражениях рассказывает об этом и один из давно и близко знавших Веневитинова друзей его, бывший член «Общества любомудрия» А. И. Кошелев. По его словам, то, что случилось с Веневитиновым в Петербурге, «ужасно… поразило» поэта, «и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него сделанным ему допросом. Он не любил об этом говорить; но видно было: что-то тяжелое лежало у него на душе».[75] Из всего этого несомненно, что заключение, допросы и, видимо, в особенности самый тон их оказали на него не только физическое, но и тягчайшее моральное действие. Примерно то же произошло года три спустя с А. А. Дельвигом, которого вызвал к себе в связи с издававшейся им «Литературной газетой» Бенкендорф и набросился на него столь грубо и с такими угрозами, что это сильнейшим образом подорвало организм поэта. И вскоре он умер от «гнилой горячки». Так и простуда Веневитинова, которая свела его в могилу, упала на подготовленную почву. О крайне угнетенном состоянии поэта свидетельствует и опубликованное только в наше время письмо Веневитинова к издателю «Московского вестника» М. П. Погодину, написанное им 7 марта 1827 года, накануне заболевания и за восемь дней до смерти. Наряду с жалобами на плохое физическое самочувствие Веневитинов пишет в нем об охватившей его невыносимой тоске: «…тоска не покидает меня… Пишу мало… Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его светильник?..Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя. Я уже выше писал, что тоска замучила меня, — прибавляет он снова. — Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я — один… Я ни за что не могу взяться». Характерно, что эпитеты «холодное», «пустое», «бездушное», которые Веневитинов прилагает к светскому обществу, встречаем и в приведенных выше строках конца шестой главы «Евгения Онегина» о светском «омуте».
Все это бросает особый свет на подлинные причины такой воистину преждевременной гибели Веневитинова. И недаром хорошо осведомленный Герцен, давая в том же своем трактате «О развитии революционных идей в России» страшный перечень, состоящий из десяти имен самых замечательных деятелей русской литературы 20 — 40-х годов, так или иначе довременно загубленных николаевской действительностью, предварил его зловещими словами: «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство, — едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью». А включив в этот перечень и Веневитинова, лаконично записал о нем: «Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет» (VII, 208). Несомненно, отдавал себе полный отчет в истинных причинах гибели «другого Ленского» и Пушкин, которому Погодин, вероятно, показал только что упомянутое предсмертное веневитиновское письмо. Недаром, по словам близко знавшей Веневитинова А. П. Керн, Пушкин сказал ей о безвременно скончавшемся поэте: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir…» («Почему допустили вы его умереть…»).[76] Ясно, что, говоря так, Пушкин имел в виду не простуду.
Гибель Веневитинова потрясла кружок «Московского вестника». Получив из Петербурга известие об этом, Погодин записал в дневнике: «Неужели так! ревел без памяти. Кого мы лишились? Нам нет полного счастья теперь! Только что создан был круг и какое кольцо вырвано — ужасно, ужасно!»[77] Глубоко опечален был и Пушкин. Издатель «Московского телеграфа» Н. А. Полевой, рассказывая о похоронах Веневитинова, упоминал имена Пушкина и Мицкевича: «Пушкин и Мицкевич провожали гроб Веневитинова и плакали об нем, как и другие».[78]
Второй тяжелой утратой для Пушкина была разлука его с Адамом Мицкевичем, который год спустя, в апреле 1828 года, переехал в Петербург, где тоже встречался с наезжавшим туда автором «Евгения Онегина», а еще через год, 15 мая 1829 года, получил разрешение, правда, не вернуться на родину (о чем хлопотал для него Пушкин, подавший 7 января 1828 года специальную записку об этом в III отделение),[79] а сменить одну ссылку на другую, более его устраивавшую, — уехать в Италию. Не совсем точно по подробностям, но глубоко верно по общему колориту то, что написал Герцен о встрече двух величайших славянских гениев: Пушкин «встретился мельком с Мицкевичем, другим славянским поэтом; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами грохотала гроза: Пушкин возвратился из ссылки, Мицкевич отправлялся в ссылку» (VII, 206–207).
Непрочным и недолговечным оказалось и сближение Пушкина с остальными любомудрами — группой «Московского вестника». Сами участники группы приписывали это только материальным недоразумениям между ними и поэтом. В действительности причины охлаждения Пушкина к «Московскому вестнику» и постепенного от него отхода были куда глубже. «Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии, — писал Пушкину еще в начале 1826 года поэт Евгений Баратынский, добавляя: — не знаю, хорошо ли это, или худо…» (XIII, 254). На некоторое время — мы видели — часть любомудров отклонилась от философии в сторону политики, но с отъездом в Петербург и последовавшей вскоре смертью Веневитинова «философия» снова вышла на «первый план». В отличие от Баратынского, который и сам тяготел к ней, Пушкину не только оказалось совершенно чуждо увлечение членов кружка немецкой идеалистической метафизикой, в особенности реакционными сторонами идеалистической философии Шеллинга, но он прямо считал это увлечение общественно вредным, уводящим от реальных нужд и потребностей русской жизни.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Творческий путь Пушкина"
Книги похожие на "Творческий путь Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Творческий путь Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.